Москва, Сиреневый бульвар, дом 4
+7 (495) 961-31-11
Воспоминания профессора В.В. Гориневского - Моя работа по физкультуре в Москве. Части VI - XX
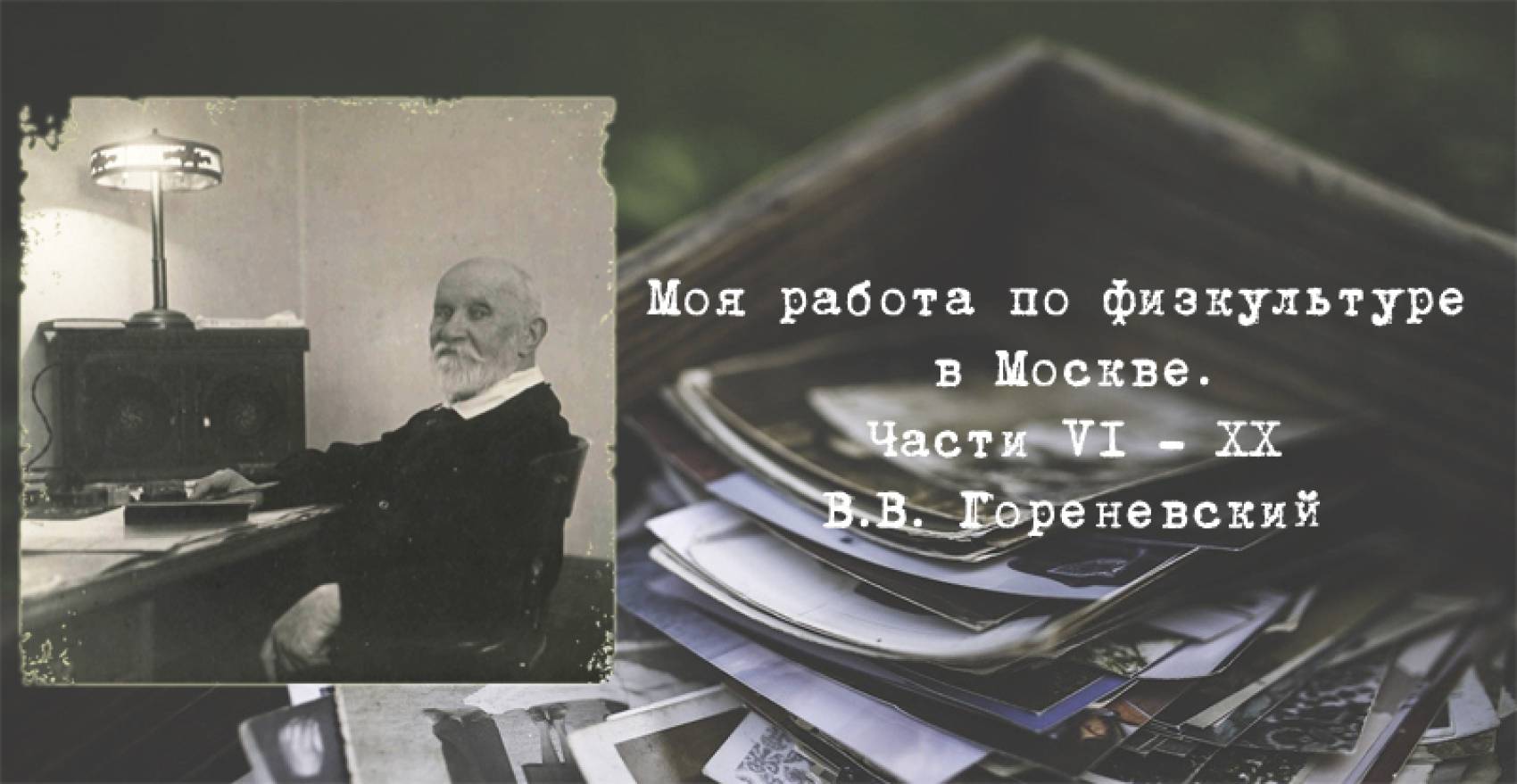
По приезде в Москву — это было уже в конце декабря 1923 года (30/XII) я имел до начала занятий в ГЦИФК две недели времени в течение которых я обдумал весь план работ на текущий 1923 год по двум учреждениям, где служил в Главной Военной Школе физического образования и в ГЦИФК. Частью этот план работ по физкультуре отражен был в моих литературных трудах (см. литер.моя деят.). Нужно было прежде всего принять решение о том, на каком материале для систематических исследований по научному контролю нам лучше всего остановиться, что во-первых проверить и расширить методы наших исследований, в во-вторых, поскорее собрать нужные данные относительно влияния физических упражнений разных видов на организм упражняющихся.
Мне казалось, что всего правильнее по возможности расширить комплекс исследований, не ограничиваясь антропометрическими данными исследования сердечной деятельности органов дыхания, кровообращения, мочи и крови. Такой комплекс исследований трудно было провести на школьниках, и м остановились на исследовании учащихся в двух вышеназванных учреждениях — ГЦИФК и Главной Военной Школе.
В нашем распоряжении не могло быть школ достаточно однородных по типу, поэтому вопрос о школах был на время оставлен, тем более, что учиться и вырабатывать методику при расширяющемся комплексе исследований (биометрия и психометрия, которые мы хотели включить в наши исследования), нам казалось, непрактично и трудно. Лучше было остановиться на менее лабильном и менее изменяющемся материале, для того, чтобы проследить на нем влияние физупражнений на организм и расширить по возможности комплекс исследований.
В лаборатории НИК Главной Военной Школы это решение было принято, и мы начали подготавливаться к новым исследованиям по биометрии и психотехнике, в тоже время был выдвинут вопрос о конституции, о выборе физупражнений на основании природных данных о телосложении. Эти данные в то время были очень спорными и имели большое значение при решении общего вопроса о том, в какой мере моторика в том или другом виде может изменять формы тела, исправлять их (коррекция) и влиять в той или другой степени на поведение человека взрослого и растущего. С этим вопросом был связан и другой вопрос о выработках лучших методов для проверки результатов физических упражнений, а следовательно и использовании на практике лучших видов физупражнений. Нам работникам НИКа трудно было рассчитывать на внимание к нашим работам со стороны педагогов Главной Военной Школы — практиков, в числе которых было много «соколов» с очень предвзятыми идеями относительно методики физупражнений. Это выяснилось на общих конференциях, на производственных совещаниях и т. д. Они были очень уверены в превосходстве своих методов обучения и в выборе средств физвоспитания. Они не хотели учиться чему-нибудь новому, и научные доказательства их мало интересовали. Споры принимали иногда очень острый характер и вызывали некоторую враждебность, основанную, конечно, на непонимании друг друга. Предложение расширить круг своих знаний повышением квалификации их раздражило и не устрашал тот аргумент, что оставшись на своих старых позициях они рискуют тем, что учащиеся их во многом перегонят и их авторитет снизится.
Из методических вопросов мною был выдвинут вопрос о Марше. Еще живя в январе на Барбашиной поляне в лагере красноармейцев в качестве преподавателя гигиены, я не раз возбуждал интерес к пригибному, экономически и в гигиеническом отношении наиболее выгодному. Литература этого вопроса, а затем наблюдения и исследования в произведенном мною на некоторых группах пешеходов, в том числе красноармейцев убедили меня в преимущества этого вида марша, а потому я не раз выступал в прессе, на собраниях и в специальных докладах (среди военных людей, например, в военной Академии) его защитником. Те же выступления я повторил и на конференции в Главной военной Школе. Ни разу я не встретил серьезных возражений и всегда полное сочувствие этой идее. Это заставило меня и моих товарищей по работе в НИКе произвести эксперимент, приняв участие в нем лично для получения предварительных данных. Эксперимент, в котором приняли участие в ходьбе почти все товарищи и некоторые лица со стороны, дал некоторые положительные данные, которые позволяли провести дальнейшую работу по уже выработанному методу.
Эксперимент был перенесен затем в лагерь красноармейцев близ Серебряного Бора, но по причинам от нас независящим он был прерван в середине испытаний. Я до сих пор очень жалею об этом, так как моего мнения о пользе этого марша я не изменил, описываю его и излагаю преимущественно во многих моих сочинениях по физкультуре. Теперь у меня не хватает времени и энергии заняться этим вопросом специально.
Дальнейшим этапом нашей работы научной в НИКе было перенесение исследовательской работы на спортивные площадки и стадионы для исследования соревнующихся в разных видах спорта и легкой атлетики спортсменов. Одной из первых работ в этом роде было обширное исследование выборочных групп на состязаниях в Сокольниках осенью 1922 года.
В организации этого дела мне помог тов. Залкинд из Военно-санитарного Отдела НКВД.
В Сокольниках нами разбиты были палатки на самой территории, где производились соревнования; в палатках расставлены были все аппараты и инструменты, необходимые для работы, привлечен был целый штат врачей и их помощниц, в исследовании приняли участие все мои товарищи по кабинету и в течение 2-3 дней мы провели ряд исследований до и после соревнований на соревнующихся в беге, прыжках. Метании. Чтобы возбудить интерес к этим исследованиям со стороны участников соревнования, мы давали им сведения на особых листочках об отмеченной разнице в пульсе, дыхании, в моче, спирометрии, динамометрии, в весе и т. д.
Этим положено было довольно прочное на первых порах начало массовых исследований. Требовалось более усовершенствовать методику, расширить круг исследований и сделать их постоянными и более организованными. Нас поддерживал не только личный энтузиазм в работе, усиленный очень интересными ее результатами, но также та любознательность со стороны тех, на ком мы производили наши исследования.
Материал для исследования оказался весьма значительный, так как обследованию подвергались студенты всех курсов этих двух учебных заведений, представлявшие довольно однородную массу по возрасту и социальному положению. Для сравнения взяты были еще однородные по возрасту группы красноармейцев. Такой обширный материал уже мог быть обработан и изучен на основах вариационной статистики и представлен в диаграммах. Всем этим занялась моя дочь Вероника.
С ликвидацией Главной военной Школы в Москве и с переводом ее в Ленинград, основная исследовательская работа велась мною и Вероникой в ГЦИФК.
Нельзя сказать, чтобы с самого начала работа пошла гладко, много было шипов и терний на этом новом и ответственном пути, но трудности постепенно преодолевались.
Следует упомянуть о некоторых из них: 1) прежде всего материальная основа Научной Части ГЦИФК была совершенно не обеспечена. Многих нужных пособий, инструментов, аппаратов совершенно не доставало и из-за этого нельзя было развернуть всего плана работ: пришлось урезывать себя во всем и в самом главном, не зная чего можно ожидать в ближайшем будущем и насколько можно было инетифицировать текущую работу. Во 2) учебная и научная часть не были строго разграничены. Это представляло нам — научным работникам некоторые преимущества в виду того, что учащиеся были нашим материалом, исследовательским материалом по научному врачебному контролю, что связывало нас с работой испытуемых и контролируемых: но большим тормозом для нас являлось то, что учебная часть оставалась довольно равнодушной к нашим исследованиям и как будто стеснялась какого-то контроля над ее действиями. Этот контроль, однако, вытекал из существа дела. Если обнаруживалось какие-либо тормозы и недочеты в развитии, то они обнаруживались в цифрах и на диаграммах, а это не всегда было приятно, так как социальная среда и труд (учебный) учитывался нашими исследованиями. Боязнь была напрасная, так как наша задача была не только обнаружить недостатки, но и помочь их исправлению. Это, однако, не так просто было понять, так как, где есть недостаток, там есть и виновные.
3-ий недостаток, мешавший общему планированию наших работ и отчасти их выполнению, это постоянно набегавшие новые задания, главным образом их Высшего Совета физкультуры, которые не всегда было возможно увязать с нашей работой. Как ни как дело двигалось, и отдельные лаборатории изыскивали средства укрепить свою работу и заботились о снабжении их нужными инструментами и пособиями.
Так, например, после мучительных ожиданий мы получили, наконец, оборудование рентгеновского кабинета, благодаря поддержке, оказанной нам Наркомом Здравоохранения Н.А Семашко, который всегда относился весьма сочувственно и выдвинул лозунг: «Без научного контроля (врачебного) нет физкультуры».
Необходимость планирования работ всеми моими сотрудниками сознавался, также как необходимость учета работы и отчета в ней, даваемого от поры до времени как в заседаниях, в которых принимала участие и Учебная часть, но было далеко нелегко побудить научных работников держаться календарного плана, расписанного на год по кварталам.
Повторные требования кафедры научного контроля и требования ректора, если и исполнились, то без всякой. Многим казалось, что протоколы наших заседаний достаточно характеризуют нашу деятельность и потому нет надобности отнимать от рабочего времени известную часть на «бумажное производство». В этом была доля правды, так как едва ли кто интересовался бумажной отчетностью: живое слово, дебаты и прочее; тем более, что и протоколы зачитывались только в нашем кругу. Но у нас был еще другой выход для ознакомления с нашей деятельностью более широких кругов и учебную часть в том числе — это печатные труды наши, но о них сообщу особо.
Я, как заведующий Научным отделом, вел ту же политику, что проводили в Главной военной Школе физического образования и часто терпел фиаско по отношению к товарищам профессорам и педагогам работающим исключительно в Учебной части. Мне очень хотелось заинтересовать их научной работой по физкультуре для того, чтобы объединить теорию с практикой и поднять несколько уровень научных знаний преподавателей практических предметов, из которых многие не получили высшего образования. С этой целью ректор устраивал совместные совещания, но они не имели большого успеха. На эти совещания приходили почти всегда одни и те же лица, очевидно интересовавшиеся научной работой, другие отсутствовали. Ректор мне им читать, но посещаемость не была велика, несмотря на то, что было заявлено о необходимости сблизить теорию с практикой и имелось в виду производить некоторые научные исследования во время практических занятий по физкультуре.
Мне кажется, что кроме лени и большой перегруженности педагогов-практиков в этом вопросе о переквалификации сыграл большую роль ложный стыд очутиться в рядах учеников. Мне часто приходилось встречаться с подобными явлениями только в России.
Во время моих многочисленных посещений, поездок за границу, на так называемых для врачей, я сидел на одной школьной скамье с выдающимися профессорами и директорами санаторий и врачами других лечебных учреждений, слушавших доклады и даже краткие курсы молодых ученых по какой-либо специальности, например, и т. д. Эти пожилые ученые с большой известностью нисколько не стеснялись выслушивать новые для них факты, беседовать по поводу их, не стесняясь присутствием «зеленой молодежи», пожелавшей также как и они штудировать …
Мне в высокой степени странным казался такой абсентеизм русских людей с очень малым запасом знаний, с большим «гонором» и большими суевериями даже в близкой им области.
Даже очень милые люди и весьма деятельные практики отдавали уважение науке на словах, на деле, оказывалось, однако иное, впрочем, и на словах проявлялась их неосведомленность в научных дисциплинах, боязнь ее обнаружить. Чувствовалось это где-то на стороне, шепотом и с улыбкой произносились мнения из комедии «Недоросль» о научных исследованиях по физкультуре и на собраниях под сурдинку высказывались иногда довольно обскурантные взгляды и обнаруживали упрямство, приверженность к старым приемам обучения и величайшее самомнение. Понятно, что при этих условиях не всегда объединение возможно, а оно для преподавания и для научно-исследовательской работы было совершенно необходимо. Этим отчасти объясняется, что нам долгое время не удавалось наладить совместную работу с практиками, но мало-помалу и это препятствие было почти разрушено, особенно когда к слову врачебный контроль было прибавлено прилагательное и «педагогический».
Кабинет научного контроля при кафедре того же имени, возглавляемой мною, объединил вокруг себя ряд научных работников, из которых только немногие были преподавателями или ассистентами в нашем ВУЗе.
При кабинете научного контроля группировались следующие лаборатории: гематологическая, физиологическая и кабинеты: биометрический, рентгеноскопический и гинекологический. Из них физиологической лабораторией заведовал д-р А. П. Егоров: помощником его был д-р Чиркин, д-р Б. И. Кауфман, рентгеновским кабинетом заведовал Д. Ф. Набашев; а гинекологическим кабинетом сначала д-р Арямов, а затем М.Мерзнищенская. при кафедре научного контроля ассистентами и научными работниками были: д-р Бирзин, Вероника Гориневская, д-р Б. А. Ивановский и лаборантка А. Гипенрейтер-Михайлова.
Доктор Бирзин, д-р С. Баронов и Чиркин работали недолго, так как первые двое перешли на службу в Ленинград, а М. Д. Чиркин (гематолог) перешел на службу в военное ведомство.
Работа всех этих лабораторий и кабинетов совершалась по общему плану нами установленному. Во всех случаях, где требовалась общая работа, все научные работники объединялись и каждый отвечал за свою часть в работе. Комплексность методов исследования требовала общей работы в большинстве случаев, но иногда приходилось вести изолированную работу. Это были большей частью работы по уточнению методики исследования, например, работы по методологии, по дыханию, по женской физкультуре, по исследованию мочи и проч.
Не всегда наш коллектив охотно участвовала в общей работе, некоторое сопротивление оказывалось в том случае, когда, например, при приеме нового состава студентов приходилось производить медосмотр, совершать антропометрические измерения. Трудно было привить ту мысль, что не всегда можно и должно вести работу по узкой специальности, что в некоторых случаях для всех обязательна общая работа, нужно разделить общую повинность между всеми членами. Вообще некоторый сепаратизм в работах коллектива наблюдался нередко и основывался на желании работать по своей специальности. Такая постановка вопроса была неправильна не только с точки зрения служебной дисциплины, но также и с принципиальной, так как излишняя специализация вела к ограничению интереса к темам общего значения. Во всяком коллективе личность играет большую роль и накладывает особую печать на всю производимую работу.
В дальнейшем мне хочется охарактеризовать моих сотрудников с точки зрения их подхода к общей работе. Я это сделаю в очень кратких словах. Ближайшим сотрудником по общей работе была дочь моя Вероника. Она была в курсе всей работы, обнаруживая всегда интерес и большой энтузиазм, увлекая своим примером других. Она была единственным моим сотрудником, который готов был взять всякое исследование в нашей области. Она знакомилась со всеми практикующимися у нас методами исследования и готова была без особых разговоров заменить всякого работника нашего коллектива, не считаясь с местничеством; для нее цель общей работы была столь же интересна, как и всякая часть ее. Она сразу оценила значение коллективной работы по достаточному комплексу, так как понимала, что такой охват работы сразу может повысить ее эффективность и ускорит ее темпы. Она находила себе хороших помощников в работе, помощников, преданных делу, аккуратных, исполнительных. К таким лицам относилась И. Гиппенрейтер-Михайлова, окончившая ГЦИФК.
Вероника очень быстро усвоила всю методику вариационной статистики, и первая ввела по отношению к физкультуре этот метод обработки материала. Затем она проводила этот метод при учете собранного материала исследования со своими слушателями ГЦИФК, с которыми она вела семинарские занятия по кафедре научного врачебного контроля. Учащиеся недурно усваивали этот метод, вместе с тем она вела с ними проповеднические занятия по контролю, причем студентки производили антропометрические измерения друг на друге.
Вероника никогда не откладывала в долгий ящик то, что можно и должно было сделать сейчас же для надлежащего использования собранного материала. Это нужно было для скорейшего учета, а такой учет нужен был для ориентировочных выводов. Я любовался всегда ею во время обработки материала по вечерам, после законченных дневных занятий. Она придумывала методы как ей самой скорее и лучше убедиться в том, правильна ли взятая форма работы, хорош ли метод, стоит ли терять время на часто скучную и утомительную работу. В этом отношении она дошла до довольно большой виртуозности, использовав для доказательства графический метод: сетку Мартина и другие способы обнаружения результатов исследования, хотя бы в виде первой наметки. Она всегда делилась со мной своими достижениями в этом направлении и всегда я считал, что этот метод график, диаграмм, таблиц наиболее убедителен. Это наиболее ясный и понятный язык цифр, дающий верную ориентировку, а когда этот язык цифр более богат, то заслуживает статической обработки, со всеми преимуществами, которые дает учет всех вариаций. Мне особенно приятно было то, что мною еще задолго до революции метод контроля качественно улучшается и растет количество, благодаря Веронике, которая с особою настойчивостью его проводила даже среди товарищей по работе, которые в начале этим очень мало интересовались и примкнули к такой работе только после того как она была ею не раз изложена, отпечатана и после того как студенты и посторонние врачи стали интересоваться этим методом.
Метод, принятый нами, давал очень внушительные результаты и в иных случаях, где указывались причины того или другого отставания, кое-кого беспокоил.
В одном из докладов, который должна была делать Вероника в виде отчета за несколько лет по обследованию учащихся в ГЦИФК, нельзя было собрать достаточное число слушателей из числа активных лиц педагогического персонала. Доклад откладывался, а когда он должен был состояться во чтобы то ни стало, то случалось так, что ректор и начальник учебной части пошли играть в теннис в это время и доклад был сделан без них.
Но, когда отчет о докладе попал в руки Наркома Н. А. Семашко, он вызвал кое-кого для объяснений по данному вопросу.
Интерес к научному контролю очень увеличился, но нельзя было сказать, что он вырастал с теми моментами, которые касались гигиены и физразвития учащихся.
Интерес начал увеличиваться за стенами ГЦИФК, его поддерживал массовый контроль, часть производимый нашими (моими и Верониками) учениками, которые слушали краткосрочные курсы, устраиваемые в разных учреждениях (врачи Мосздрава, врачи-педологи, военно-санитарные врачи, курортные и т. д.), а затем уже врачи физкультуры в самом Институте.
Вероника здесь проявила огромную энергию и большие лекторские способности. Ее выступления всегда сопровождались демонстрациями той работы, которую она проводила в ГЦИФК, в Мосздраве и в некоторых других местах. Этот конкретный материал, сообща прорабатываемый слушателями, оказывал всегда огромную пользу, и так как из года в год значительно увеличивалось число наших учеников-врачей и инструкторов, то наши методы работы были хорошо усвоены; появился сначала ряд докладов, затем их литературное оформление. Через несколько лет умножилось число врачей, ведущих самостоятельную работу по врачебному научному контролю, в большинстве случаев это были наши ученики и сотрудники.
Когда стали расширяться наши кабинеты и лаборатории при ГЦИФК, стала углубляться и расширяться наша исследовательская работа, но тут встретились некоторые тормозы, которые отчасти мешали проводить работу по большому комплексу и по общему плану.
Физиологическая лаборатория с профессором Ненюковым во главе долгое время очень мало связывалось с нашей работой.
К обследованию обще-физиологическому: общий обмен, газовый обмен, как-то лаборатория не была готова. Это объяснялось отчасти тем, что у нас не было в то время аппаратов довольно сложных для этого исследования. Лаборатория пошла по линии наименьшего сопротивления. Почти не участвуя в массовых исследованиях, лаборатория выдвинула сравнительно мелкие вопросы: кефалометрия (Виленский) и исследование мочи, а затем, когда на работу был приглашен с уходом Виленского д-р Смирнов, лаборатория начала довольно основательно заниматься вопросами дыхания, производя сначала пнеймотографические и другие исследования на ограниченном круге людей, и затем только, спустя много лет, перейдя на более широкую арену, обследования учащихся. Этот малый круг охвата, вынудил наш биометрический кабинет обратить внимание, а изучение сердечнососудистой системы в практических целях исследования функциональной диагностики сердца. Эта работа начата была в сущности в Главной военной Школе почти с самого начала ее существования и даже гораздо раньше. В Главной военной Школе эта работа выработки методики исследования была поручена д-ру С. Ф. Баронову и Веронике. Она продолжалась и в ГЦИФК, там примкнул к этой работе д-р Шабашов, работавший одновременно в клинике проф. Зеленина, но вскоре захворал и надолго вышел из строя, а потому работа по физкультурной диагностик сердца и сосудистой системы была мной поручена Веронике. Таким образом, известная «проба сердца по методу ГЦИФК» была выработана совместно несколькими сотрудниками кабинета врачебного контроля, на сотнях или тысячах исследуемых практикуется и до сих пор. Мне приходилось не раз сталкиваться с профессором Ненюковым в работе. Он не был врач и читал лекции по биологии (энтоматологию в Университете), и как мне казалось, недостаточно проявлял интерес к физкультуре, ограничиваясь лишь самым необходимым, чтобы не признать его стоящим совершенно в стороне, и продолжающего читать лекции только по нормальной физиологии, и то не в очень достаточном объеме. Когда обстоятельства выводили его на чистую воду, он, возбуждая у многих улыбку, начинал вдруг производить исследования мочи, а затем он стал выдвигать Смирнова, как работника по вопросам дыхания. И в этом не было почти никакой согласованности, так как он делился результатами только по окончании работ и действовал как будто изолированно, несмотря на протесты.
Он представлялся мне вообще человеком хитрым, не любящим чем-нибудь затруднять себя и в виде курьеза, о чем рассказывали многие, засыпал иногда и даже храпел на заседаниях, на которых он председательствовал.
Это был очень массивный и малоповоротливый человек, любивший шептаться и редко высказывавшийся с полной откровенностью, но зато он знал, где раки зимуют, и в хозяйственных отношениях довольно хорошо обеспечивал сою лабораторию. Он сам говорил, что шатался по рынкам и другим экономическим базарам, чтобы достать то, что ему нужно было, но все-таки, несмотря на запасы, слабо реализовал то, что имеет для производственной работы значение.
Характеризуя д-ра Д. Ф. Шабашева, как работника в ГЦИФК (работу его в других местах я не знаю) я должен сказать, что он мог бы гораздо больше дат, чем он дал. Когда он получил, наконец, Рентгеновский кабинет (по моему ходатайству), он долгое время занимался его оборудованием и изучением рентгеноскопии. В то же время он принимал участие в обследовании учащихся, главным образом, как специалист-кардиолог. Я ожидал от него самых широких исследований по рентгеноскопии сердца, как в статическом, так и в динамическом состоянии, но он странным образом всегда уклонялся в сторону патологии сердца и показывал мне нередко снимки, снятые с сердца больных людей, никакого отношения к физкультуре не имевшими. Это не входило в наши задачи, тем более, что лечебные консультации с амбулаторными больными в стенах ГЦИФК, где не имелось никаких материальных предпосылок в то время, мною принципиально были отклонены, но тут действовали какие-то посторонние влияния, и с моим мнением не считались, тем более, что живя далеко от ГЦИФК, я не всегда мог найти для себя удобным вмешательство в эти, как мне казалось, частные дела нескольких лиц, занимавшихся врачебной практикой в ГЦИФК, под знаком физкультурных консультаций. Слухам, доходившим до меня я не придавал значения, так как не мог и не хотел их проверять: работа их происходила вне часов занятий. Д. Ф. Шабашев использован был также как преподаватель на старших курсах ГЦИФК по сердечнососудистой системе. Он очень редко включался в общую работу по темам не Институтским и тоже, как и некоторые другие старался выдвинуть себя как специалиста и только. На заседаниях кафедры мы с этим спорили, но он, по-видимому, неохотно подчинялся общему решению, часто к тому же отвлекаясь поручением ректора по линии врачебной, заменяя отсутствующих врачей. Вообще он вел себя довольно странно, опаздывая на занятия под разными предлогами (особенно поздно возвращался после летних каникул — точно пользовался какими-то привилегиями), а иногда просто высиживал часами в своем кабинете, не торопясь дать отчет о том, что он делает. С ним было довольно трудно работать в коллективе. Он интересовался больше патологией, чем физкультурой нормального человека, что нам особенно нужно было в первые годы ее строительства. Хуже всего было то, что он как будто не отказывался и даже сочувствовал, но на деле ко всему относился формально и без собственной инициативы, восторгаясь какими-то «пустяками».
Вполне естественно было, что Вероника после ряда бесплодных побуждений, обходила его и вела общую работу с большим напряжением. Нельзя было не занять «пустого места», хотя он, когда это пустое место заполнялось, был очень недоволен. Это неудовольствие выражалось не столько на словах, сколько в кислых гримасах, в сидении сложа руки на кресле в кабинете при открытых дверях, «чтобы все видели».
Я пробовал действовать на него убеждением, указывал на пробелы в нашей работе в области рентгена, он улыбался, всегда находил какие-то будто бы, оправдывающие его обстоятельства и все оставалось по-прежнему. Но зато он очень хорошо знал дорогу к тому и затем другому доктору, оправдывался разрешением данным ему того или другого поступка в отношении коллектива (продолжительная неявка, отсутствие согласованности в работе) и возу все нет ходу, а тайные слухи ходили, что мы (то есть я и Вероника) мешаем ему проявить себя в полной мере.
Среди научных работников у нас был еще один оригинал. Это А. П. Егоров. Он появился на горизонте ГЦИФК, должно быть незадолго до меня, так как еще ректор В. Е. Игнатьев докладывал о его работе по крови до моего окончательного поступления в Институт. Работа его мне была очень интересна, и я вначале почувствовал большую радость от того, что вместе будем работать. Первые встречи с ним на научных и пленарных заседаниях указали мне на некоторые странности в его характере. Он необычайно эгоцентричен, и о чем бы не начинал говорить, всегда выпячивал себя на первое место; остальной фон картины в его отношениях был очень бледен. Хотя я не считал себя специалистом по гематологии, но, когда Егоров тогда еще молодой исследователь, выставлял свое имя наряду с Шиллингом и выводы из своих работ и называл законами, я все-таки усомнился в том, не приписывает ли он себе слишком много.
Он говорил о моторных сдвигах крови и об резком изменении ее химического состава под влиянием некоторых физических упражнений. Вопрос этот, тогда еще новый, не был для меня неожиданностью, но апломб, с которым А.П. говорил о своих исследованиях соответствовал как раз тому, что он говорил о своей учености, прозорливости, умении работать и т. д. Самовосхваления его не были случайностью, так как о чем бы ни поднимался вопрос в частном разговоре, А.П. сейчас же переходил на тему о себе, никем и ничем как будто не интересуясь. Это умаляло его значение как работника в моих глазах, я должен был присмотреться к тому, как он работает и к тому, что он пишет, для этой цели вел с ним довольно частые беседы. Я убедился вскоре, что он очень хороший техник и хороший исследователь в своей области. Миогенные сдвиги крои были им хорошо изучены, и он внес, несомненно, в науку много ценного. Я думал вначале, что этот успех вскружил ему голову, и потому он так высоко ставит себя, но очевидно голова его вскружилась еще раньше, и он уже не может понять, как бросается всем в глаза не только его самоуверенность (это было бы неплохо), но и эгоцентричность влюбленных в себя подростков, переживающих процесс полового созревания. Вот эта особенность А.П. чрезвычайно мешала общей работе и только с течением времени он научился, по-видимому, благодаря своим ассистентам, работать в коллективе, проверяя одни явления организма другими, и пойти, наконец, по пути общего комплекса на массах. Д-ра М. Д. Чиркин и Б. М. Кауфман — два прекрасных, добросовестных работника гематологического кабинета сгладили эти неприятные черты характера А.П., и работа коллективная наладилась, но и тут А.П. стремился отделиться от товарищей и даже создать нечто в роде кафедры гематологии при ГЦИФК, где не учились медики. В конце концов, зная характер человека с его неприятными особенностями, можно все-таки работать вместе, несмотря на то, что А.П. нередко подходил с другого входа к власти в ГЦИФК, ему можно было простить ради хорошей продукции. На этом я и остановился. А. П. Егоров обещал заняться не только морфологическими изменениями крови под влиянием тех или агентств, но и начала изучение химического состава крови и его колебания. С радостью я отмечал первые шаги его в этом направлении, например, изменения «зеркала крови». Работа эта довольно обстоятельная проделана была им вместе с д-ром Норматовым (из Института курортологии); после ухода моего из Института я что-то не слышу об этих работах, которыми очень интересуюсь. Не раз я вел беседу с д-ром А. П. Егоровым об изменениях, которые должны существовать в крови под влиянием утомления. Нельзя ограничиваться до сих пор теми знаниями, которые мы имели по этому вопросу (молочная кислота, щелочность крови, ацидоз и алкалоз и т. д.) еще в то время нашей общей работы надо идти дальше, и я не знаю, интересуется ли этими вопросами, которые тесно связаны с обменом и до сих пор. Могу сказать только, что он один из немногих придавал всем этим изысканиям большое значение. Это меня очень интересовало и сблизило бы меня с ним гораздо больше, если бы он не ставил рогатки между нами по причинам мне неизвестным. Неужели он боялся того, что я могу у него что-либо позаимствовать? Во всех моих печатных работах я ни разу не упустил случая напечатать того, что им сделано по интересовавшемуся нас вопросу. Странный человек! Без этих странностей он поднялся бы еще выше и сделал бы больше.
Из числа самостоятельных работников, заведующих кабинетами следовало бы еще упомянуть о д-ре Арямовой и д-ре Меренищенской, занимавших места заведующих гинекологическим кабинетом — одна за другой.
Начатая ими обследовательская работа над студентами дала довольно значительный материал для выводов о влиянии физических упражнений, практикуемых в Институте, на организм. Точно также учеба и весь Институтский режим мог быть, в известной мере, отражен на данных гинекологического исследования и общего статуса их здоровья и развития. Обследования эти, совершаемые не реже двух раз в год подготовили почву для более широкой постановки вопроса о женской физкультуре.
В первые годы после революции, когда мужчины и женщины, девочки и мальчики начали посещать общие школы, ВУЗы и Втузы, занятия по физкультуре были также общими для обоих полов. Явились защитники той мысли, что нет достаточно основательных причин для того, чтобы преподавание физкультуры сделать хоть в чем-либо различным: женщины, если они по силе или другим качествам в чем-либо отстают от мужчин, то для такого отставания были своим исторические причины, действовавшие веками, а теперь, когда женщины во всем достигли полной эмансипации, нет надобности делать ее неполноценной в физкультуре. Она догонит, а может быть перегонит, если предоставить для соревнований полную свободу. Так решать вопрос такой серьезный воспитания женщины, конечно, было нельзя и пришлось, оспаривая непреложность указанного мнения бороться самыми убедительными доказательствами: научным опытом, в пределах возможности, и экспериментом.
В ГЦИФК учились здоровые девушки, хорошего телосложения и развития, большинство из них происходило из рабочих и крестьянских семей и при поступлении в ВУЗ они подвергались самому всестороннему исследованию в наших кабинетах специалистов и врачей. В тех случаях, когда им предлагались одинаковые с мужчинами упражнения влияние отдельных видов отдельных физкультурных упражнений очень скоро становились заметным. Одинаковые неблагоприятные реакции учитывались, и во многих случаях приходилось снижать нагрузку.
Мало помалу выяснялось, какие упражнения менее показаны или даже противопоказаны женщинам. Идя не ощупью, без компаса, а действуя по определенной программе, занося в листы и карточки для исследований все отмеченные детали, мы могли в скором времени убедиться, что женский моторный прогноз, в сущности, благоприятен. Если женщина при всех равных условиях значительно отстает, например, в силе, то нас это существует вполне точно, установленные причины, заключающиеся в их росте, в их ином телосложении, в менее сильных рычагах тела.
Словом, если с большой тщательностью собирать антропометрические, биометрические и другие социолого-биологические факторы, обусловливающие физическое развитие женщин и сравнить их с теми же данными, полученными от мужчин, то совершенно очевидным станет большая разница по половым признакам. Сличив полученные русские данные с зарубежными, мы, хотя и встретим некоторую разницу в нормативных показателях, но все-таки закономерность половых различий и их общий характер у всех народов и о всех землях станет очевидным. Эти сравнения были сделаны и с очевидностью трудно было, конечно, спорить. Характерные особенности женского организма как в отношении морфологии так и в отношении функциональном штудировались нами с полной добросовестностью и на основании этого изучения приняты были меры, ограждающие женщин от ошибок в выборке упражнений. Комплексы допустимых упражнений проверялись на практике одного ГЦИФК, работа врачей Мосздрава, в которой Вероника участвовала в качестве активнейшего члена и участившиеся массовые соревнования показали какой выбор надо делать в разных случаях. Выяснилось также и то, что женщины во многом не только не уступают мужчинам, но даже их превосходят, выказывая этим своеобразную типично женскую полноценность.
Когда накопилось достаточно большое количество данных и фактов о физразвитии женщин и ее психомоторных способностях, проблемы, как это всегда бывает, умножились и необходимо было строить заново физкультуру для женщины. Женщинам надо было объединиться, чтобы найти конкретные формы комплексов физупражнений, наиболее пригодных в разных ситуациях, в разных условиях женской жизни (трудовой, семейной и общественной).
При ГЦИФК при кафедре научного контроля несколько лет работала постоянная женская комиссия, состоявшая из некоторых практических преподавательниц физкультуры в нашем ВУЗе и из членов нашей кафедры научного контроля под руководством Вероники.
Труды этой комиссии были очень плодотворны, получилось единение по основным вопросам, велась научно-исследовательская работа и для начала была издана книга «Физкультура женщины. Часть первая», которую я редактировал. Книга эта, имевшая очевидный успех, дала новый толчок к новым работам. Львиная доля в этой большой работе выпала на долю Вероники, которая перерабатывала каждую статью. Книга хорошо иллюстрирована. Появление ее сопровождалось рядом докладов и демонстрациями.
Огромное значение для научного обоснования физкультуры в СССР, имели работы нашего Института по массовому обследованию участников соревнования. Интерес к соревнованиям был возбужден среди русской молодежи уже давно, но в публичных соревнованиях, привлекавших большую массу народа в качестве зрителе, участвовали до революции и в первые годы после нее главным образом спортсмены-мастера, гонявшиеся за призами, за индивидуальной славой, за побитием рекордов. Это были представители буржуазии, дети богатых родителей, для которых не жалко было тратить время и деньги на подготовку к выступлениям, на тренировку к какому-либо одному излюбленному виду спорта или атлетики.
С этими буржуазными традициями, выступавшей на аренду общественной жизни пролетарской молодежи пришлось вести упорную борьбу, которая в русской литературе, особенно специальной физкультурной отмечена яркими штрихами. Борьба эта велась различными средствами на протяжении многих лет, успех получился тогда, когда появились мощные профессиональные, трудовые организации с значительным преобладанием пролетарской прослойки в группах физкультурников, интересующихся спортом и атлетикой.
Мною было уже раньше упомянуто о первой попытке установить медосмотр и врачебный научный контроль во время массовых соревнований по легкой атлетике в Москве (в Сокольниках) в 1922 году на первенство России.
Это первая попытка организована была Научно-Исследовательским кабинетом при Главной военной Школе Физического Образования трудящихся Всевобуча. Участие в самой постановке исследований на месте соревнований на стадионе в Сокольниках принял научный коллектив, состоявший из сотрудников кабинета и специально прикомандированных врачей Главсанупра и главного Управления Всевобуча. Описание этих исследований в обработанном виде помещено в журнале «Физическая культура» № 3 и № 4 1923 года.
Эта попытка была затем повторена в 1923 году и на Первом празднике физической культуры СССР.
Осенью 1924 года на втором Всесоюзном празднике физкультуры научные исследования продолжались по тому же нами выработанному комплексному методу, по несколько иному плану и более широкому масштабу.
На этот раз организованную часть по устройству праздника взял на себя наш сотрудник д-р Берзин по поручению Высшего Совета физкультуры. Им была организована новая комиссия по научному врачебному контролю, работавшая под моим председательством и руководством. В комиссию вошли работники Научного Отдела ГЦИФК и отдельные представители от Военно-Санитарного управления РККА. Это все были мои ученики по физкультуре Военного Санитарного Управления.
Цель научной работы нами проведенной заключалась в следующем: 1) нам нужно было установить с наличием каких сил, с каким физическим развитием явились на спорт-праздник участник и участницы соревнования оспаривать первенство в разных видах спорта, а для этого нам нужно было подвергнуть их всестороннему клиническому и психофизиологическому исследованию по заранее выработанной карточке, чтобы по разнице в цифровых данных, собранных до и после соревнований определить возможность точнее то влияние, которое оказывают разного рода соревнования на организм и установить полностью общую картину влияний праздника, продолжавшегося от 3-го августа по 7-е сентября включительно на всех его участников в целом.
Такие задачи никогда прежде не ставились исследователями и потому коллективная массовая работа широко поставленная и проведенная со всеми гарантиями научного исследования имела в физкультурном отношении большое значение и послужила впоследствии образцом для многих работ того же рода.
В соревнованиях на 2-м Всесоюзном празднике физкультуры 1924 года приняли участие и подвергались испытаниям следующие группы спортсменов: многоборцы, метатели, бегуны на короткие, средние и длинные дистанции, прыгуны и пловцы. Достижения их были строго установлены. От них были получены следующие материалы: анкеты, общий медосмотр, антропометрические исследования по всему комплексу, некоторые психофизические данные, были сделаны группировки по типовым особенностям (конституции, группировка по специальному положению, по возрасту и полу, по национальности, группировка по профессиональному составу и образованию, по спорту и тренировке). Для сравнения нужны были идентичные группы по тем же признакам. Нами взяты были с этой целью студенты и студентки Главной военной Школы (ВШ ОТ) и студентки ГЦИФК, и красноармейцы полка ГПУ, последние взяты главным образом для того, чтобы сравнивать городских жителей с сельскими, так как среди красноармейцев этого полка взяты были крестьяне, недавно принятые на службу.
Все полученные данные были разработаны по правилам вариационной статистки, и затем представлены были в многочисленных диаграммах, которыми я и дочь моя постоянно пользовались, затем как документами на целом ряде всевозможных курсов для врачей, студентов, педагогов-инструкторов и т. д. Работа коллектива затем была напечатана в журналах «Теория и практика» т. у. Издат.ВСФК. В таблицах и на диаграммах представлены и изображены не только средние данные, но индивидуальные данные участников, занявших первые места при состязании на первенство.
При сводке полученных результатов исследования получились весьма интересные и данные ясно обнаружившие ценность подобных контрольных исследований и учета всей работы. Эти данные и выводы из многому нас научили. Они, прежде всего, подтвердили большое значение массового контроля при разрешении многих проблем и спорных вопросов физкультуры, они подтвердили априорную ценность комплексного метода исследования, описанного мною за много лет раньше и предложенного для широкого пользования. Они дали спорные моменты для ориентировки по вопросу о влиянии на организм (сердце, легкие, кровь, спирометрия и т. д.) различных категорий физупражений. Они подтвердили предположение о том, что хорошая тренировка дает не только успех в работе, но она страхует от утомления, увеличивает выносливость, улучшает все реакции человека на упражнения.
Они показали большую разницу психической реакции у разных людей на соревнования и отчасти позволили вскрыть причины этой реакции. На вопрос о психическом возбуждении, об эмоциях не был решен нашими исследованиями, но был поставлен.
В последующие годы физкультурного движения наша кафедры научного контроля при ГЦИФК, продолжая вести систематически исследовательскую работу на собственном материале на студентах и студентках нашего ВУЗа, интересовалось, конечно, всеми решительно работами по массовому исследованию по продолженному нами комплексу участников соревнований, где бы эти соревнования не происходили.
Следуя нашему примеру, многие врачи не в одиночку, а специально с «организованными» коллективами производили работы, подобные нашей и печатали результаты исследований в разных изданиях. Очень много произведено дельных работ мосздравскими врачами, которые затем печатались в разных сборниках.
Вероника участвовала во всех этих работах, делясь душой этого дела и стимулируя всю коллективную работу. Среди мосздраввсикх врачей физкультурников большинство были наши ученики, не исключая и руководительниц физкультурного Мосздрава Марии Анатольевны Минкевич, которая вместе с Вероникой издала Штандартные данные по исследованию детей и людей разных возрастов, сделавшиеся настольной книгой всех работающих в этом направлении врачей.
Когда являлась новая проблема, требовавшая теоретического освещения и научно обставленного исследования для оценки практического прикладного значения того или другого вида физических упражнений, наша кафедра со всеми своими сотрудниками бралась за решение таких проблем.
Вот образчик как мы подошли к решению проблемы о боксе (См. Физкультура в научно-практическом освещении под редакцией ректора А. А. Зигмунда и проф. В. В. Гориневского. Изд. «Практическая Медицина» Ленинград 1928 г. № 1-2 январь–март (год издания 5-й) Орган совета научных работников в ГЦИФК в Москве). В 1928 году нами поставлен вопрос о боксе в следующей форме: Психофизиологическое и социально-педагогическое исследование английского бокса. В описываемый период интерес к английскому боксу очень возрос и на это были определенные причины: с ростом физкультурного движения в СССР увеличивался интерес к каждому средству, особенно к такому волнующему средству, привлекавшему любопытство толпы. Публично устраиваемые бои возбуждали внимание, возникали споры, рождались самые противоречивые мнения, явились защитники и обвинители, бокс начал возбуждать большие сомнения как средство физкультуры, и в компетентных кругах (местные советы физкультуры и ВСФК) высказывали мнения о запрещении бокса как зрелища.
С другой стороны защитники бокса настаивали на том, что бокс в связи с начавшейся проводиться военизацией физкультуры, должен быть рекомендован как лучшее средство подготовки бойца, так как в нем заключается много элементов для воспитания психофизических качеств воина защитника СССР.
Резкое расхождение в мнениях и побудило ВСФК поручить Инфизкульту провести научное исследование бокса, и определить его ценность и значимость как средства физкультуры.
Результаты научного исследования должны были послужить основой для решения ВСФК. Комплекс исследования взят нами по возможности полный. Нам нужно было оценить бокс с точки зрения психофизиологической как упражнение, возбуждающее определенную реакцию организма, как социальное явление начинающее привлекать большое внимание масс, как зрелище, доставляющее развлечение и видимо сильно возбуждающее эмоцию.
К обычным биометрическим исследованиям присоединены были психотехнические по методам ГЦИФК (глазомер, объем и концентрация внимания, быстрота сообразительности, скорости и точности движений, скорости и точности реакции). Кроме того, в состав комиссии по исследованию вошли педагоги (проф. Кульжинский), психолог (проф. Рудик), и социолог (доц. Еловиков). Наконец задолго до этих исследований бокса, еще в боксерских матчах, происходивших в Главной Военной Школе по физобразованию после исследования нокаутированных мы обратили внимание на сильное волнение, испытываемое зрителями. Случалось, что некоторые из зрителей впадали в бессознательное состояние и очень плохо переживали свое крайнее возбуждение. Нам приходилось объективно отмечать эту степень волнения, а потому мы решились путем анонимных анкет выявить отношение зрителей к данному виду спорта. Вопрос, таким образом, охвачен был с разных сторон, а для получения данных исследования, и сделать оценку по ним пришлось комиссии немало поработать.
На испытании явились лучшие боксеры Москвы и Ленинграда и несколько человек германских боксеров. Соревнования происходили в ноябре 1926 года в Цирке. Учет влияния боя был приведен непосредственно после него и на следующий день после его совершения.
Я здесь не имею намерения произвести оценку английского бокса по нашим данным очень обстоятельным, добросовестно проработанным и представленным затем в литературной форме. Не в выводах по всем затронутым вопросам здесь может быть речь — они тоже сделаны и утверждены в расширенном пленуме НТК, ВСФК. 7-го апреля 1927 года по докладу Вероники Гориневской и Б. А. Ивановского — здесь я хочу отметить только значение таких коллективных работ для физкультуры и для того метода, которым она пользуется постоянно для проверки своих заключений при решении тех или других проблем. Этот метод научно-врачебно-педагогического и социально-бытового контроля при массовых действиях совершенно оправдал себя во всех случаях строго обставленного исследования и оказался вполне «рентабельным», т. е. он оправдывал затраченные на исследования силы, время служил всегда тем ситом, через которое проходили только хорошо тренированные, хорошо подготовленные и оставались слабые, больные, к данному виду спорта неприспособленные. С другой стороны этот метод отбора всегда указывал на то, в чем должна была заключаться тренировка, какие существуют показания и противопоказания к разным средствам физкультуры при разных условиях их применения и, наконец, такой метод контроля и учета единственно правильный, который указывает, каким путем нужно идти при искании нормативных показателей. Мне кажется, что об этом надо особенно твердо помнить теперь, когда мы стараемся установить нормативные показатели для ГТО в физкультуре.
На этом основании совершенно прав был Н. А. Семашко, когда он в предисловии к юбилейному Сборнику трудов ГЦИФК в научно-практическом освещении (том 4-й 1928 года), вышедшему к десятилетию Октябрьской революции, писал: Институт прав, когда он практику физкультуры не отрывает от науки физкультуры. Наука вообще должна освещать своим факелом пути практической работы, без того практика действует в впотьмах, спотыкается и сбивается с пути… Сколько ошибок на практике вследствие недостатка в проработке теории. Сколько у него ложных путей, которые может исправить лишь правильная теория».
Кроме больших вышеперечисленных тем, в разработке которых участвовали большинство научных работников, в ГЦИФК велась работа и в отдельных лабораториях и кабинетах на другие темы, подобные или самостоятельные. Так, например, во всех лабораториях улучшалась методика специального исследования.
Следует упомянуть о работах дыхательной комиссии, работавшей под председательством проф. Ненюкова при сотрудничестве д-ра Смирного, лаборанта Ненюкова и других. Вопрос о правильном дыхании и обучении ему естественно был одним из самых важных вопросов физкультуры. В литературе и на практике образовалось какое-то странное к нему отношение. Известно, что многие авторы придают ему слишком большое значение, так называемому искусственному дыханию, полагая даже, что глубокое дыхание в статическом состоянии, не совершаемое по известной программе и методу ежедневно может иметь высокое гигиеническое значение, так как увеличивает окружность груди и емкость легких. Это чисто лечебная форма применения дыхания входила в моду и многие по совету Лобановой и других слишком много времени тратили на эту процедуру в роде «зарядки», упуская из виду, что простой бег, плавание, игры, гребля, лыжи, коньки и многие другие физические упражнения динамического характера, не посягая на время напрасно затрачиваемое и не возбуждая скуки, могут дать гораздо лучший эффект в смысле вентиляции легких, но разницу между дыханием в статическом и динамическом состоянии надо было все-таки показать и зафиксировать результаты исследований при помощи пневмограмм, спирометрических и других исследований. Этим делом занималась упомянутая комиссия в течение нескольких лет, изучив глубину и полноту дыхания у многих испытуемых.
На полемику, на изучение вопроса нужно было много времени и труда. Чтобы выработать методику дыхания в разных случаях жизни и при разной работе. По этому вопросу приходилось и мне не раз выступать в печати, рекомендуя обучение правильным приемам дыхания с малых лет и особенно на уроках гимнастики и при всяких трудовых процессах.
Эта пропаганда как будто возымела свое действие, так как в настоящее время уже так много не спорят, в таких, в физкультурном отношении, азбучных истинах, а вопрос о дыхании разрабатывается уже более углубленно, применяя к конкретным случаям работы или болезни, но в 1928 году этот вопрос обсуждался довольно серьезно на конференциях, когда представлены были Смирновым, Красусской, Крестовниковым и многими другими авторами новые исследования, очень сложные методы по установке дыхания здорового человека, теперь не играют уже такой видимой роли. Что касается до лечебной стороны, то методика здесь играет, кончено, видную роль.
Когда была изучена методика дыхательных упражнений в ГЦИФК Т. И. Никитин начал их применять с лечебной целью (физкульттерапия) в курортах, куда ездил по приглашению на лето. Для записей кривых он пользовался пневмографом. Пневмограммы туберкулезных и других легочных больных меняются в зависимости от осторожно применяемых физупражнений в связи с улучшающимся процессом в легких.
Гематологическая лаборатория, участвуя в общей коллективной работе ГЦИФК представила ряд работ, опубликованных как в русской, так и иностранной литературе на разные темы по исследованию крови в связи с физкультурой. Больше всего работ по миогенным сдвигам крови под влиянием отдельных видов спорта и физупражнений (лыжи, коньки, бокс и т. д.).
Наиболее интересна связь этих сдвигов с тренированностью, степенью утомления и общим состоянием организма. По количественному изменению ферментов крови под влиянием физупражнений производились исследования в физиологической лаборатории.
Следует упомянуть еще о работах в одной области физкультуры, начатых еще во время заведывания кафедрой научного контроля в ГЦИФК. Это в сущности область медицины, где лечебным методом является движение в разных видах.
Здесь об этом я скажу только несколько слов.
Физкультура имеет очень много точек соприкосновения с физиотерапией и курортологией.
Физкультура, например, постоянно сталкивается с физиотерапией по вопросу о закаливании, так как средства воздействия на организм здесь одни и те же — солнечная энергия, воздух и вода, применяемые в разных видах и формах. Самая существенная разница заключается в применении к здоровому и больному организму, но так как границу между здоровым и больным провести не всегда легко и даже возможно, то вполне естественно, что применение закаливания с профилактической целью в обоих случаях должно иметь более или менее общий характер. Отсюда возникают иногда споры о том кому принадлежит на курортах, например, главное руководство в этой области врачу-физиотерапевту или врачу физкультуры; последний претендует на руководство кинезотерапией (лечение движением постоянно сочетает его с закаливанием). Спор довольно трудный, но при первых заявках на право лечения больных движением, врачи физкультурники постоянно сталкивались с некоторой оппозицией врачей физиотерапевтов, и последние были неправы, так как совершенно не были подготовлены к физкультурному воздействию ни на здорового, ни на больного.
Физкультура не скоро получила право гражданства на курортах: об этом я расскажу после, но вначале, как только заговорили о кинезотерапии или мототерапии, как чаще назывался этот метод лечения, в ГЦИФК одновременно защитниками его выступили и физкультурники и врачи физиотерапевты. В это время как раз шла довольно интенсивная подготовка врачей по физкультуре как в ГЦИФК, та и в некоторых других местах, например, курортной клинике. Участвуя в качестве лектора и частью организатора почти на всех курсах по подготовке врачей в Москве, я читал лекции по разным отделом физкультуры (физкультура в целом, научно-врачебный контроль, гигиена физ.упражнений и, наконец, физкультура, как лечебный метод) и потому был свидетелем того, как растет у врачей интерес к вопросам кинезотерапии. В самом начале лечения движениями не могло опираться на большое число фактов. Вся иностранная литература, которую я изучил, была очень ограничена, а на русском языке имелось всего несколько статей и то главным образом переводные или во всяком случае, не охватывающие вопрос в целом. Совершенно ясна была некоторая тенденция выдвинуть этот вопрос у ортопедов, предлагая свои методы под названием врачебная гимнастика, они все-таки очень далеки были от широкого ее распространения на всю патологию, их воздействие на организм главным образом было местное, так как они не внесли динамики в методы своего лечения и чересчур осторожно применяли врачебную гимнастику в сидячем или стоячем состоянии, то есть в составлении, то есть в состоянии статики тела. Недостаток опыта не позволял ортопедам идти вперед смелее, для этого необходимо было, что физкультура, как научная дисциплина окрепла и немного более созрела, то есть нужно было, чтобы прошло еще довольно много времени.
Нужно отметить, что молодые врачи-курсанты высказывали всегда большой интерес к лечебной физкультуре, пожалуй больший, чем к профилактической. Это объяснялось тем, что после окончания курса, они устремлялись на курорты, в лечебные учреждения, в санатории и клиники, где им предстояло иметь дело с больными.
Встречаясь с товарищем проф. И. А. Богашевым с его ассистентом д-ром И.М. Саркизовым-Серазини, с д-ром Якобсоном, мы не раз обсуждали этот вопрос, и он вынесен был на обсуждение в Наркомат Здравоохранения, где были сделаны соответствующие доклады. После вынесенной резолюции вопрос этот был передан в Главное курортное правление, избрана была особая комиссия по физкультуре, работавшая затем несколько лет под моим председательством. К участию в работах комиссии кроме врачей были приглашены ректор ГЦИФК А. А. Зигмунд, преподаватели физкультуры: Соколковский, Синицин, но о работах этой комиссии я расскажу после, а здесь упомяну о том, что вопрос о проведении методики физупражнений в лечебно-профилактических учреждениях, об организационных формах и научном контроле физкультуры на курортах, в санаториях, домах отдыха, приняв новые организационные формы перенесен был в Высший Совет физкультуры, где мне и другим лицам пришлось выступать с рядом докладов и участвовать в обсуждении вопросов, которые переносились затем в конференции по физкультуре и на Съездах.
Одновременно шла проработка вопросов от естественных методах лечения солнцем, воздухом и водой, вопросов о закаливании и гигиене физических упражнений в разных отделениях нашего Института и появился ряд печатных трудов, помещенных в Трудах нашего Института, и в журнале «Теория и практика физкультуры», в журнале «Курортное дело» и в других изданиях.
Теперь я хочу описать в кратких чертах работу по учебной части в нашем Институте, и остановлюсь главным образом на учебной работе по кафедре Научного (врачебно-педагогического) контроля.
ГЦИФК с самого начала своего существования должен был выпускать кадры высших специалистов по физкультуре — инструкторов и педагогов, преподавателей в техникумах и ВУЗах, словом во всех высших и средних учебных заведениях, где преподается теория и практика физкультуры. С открытием кафедры физкультуры при ВУЗах, Втузах и медвузах, область применения труда после окончания ГЦИФК значительно расширилось и требования значительно увеличивалось.
С ростом физкультурного движения, спрос на квалифицированных работников сильно возросло. Окончившие ГЦИФК, приглашались на службу в разные учреждения, они приглашались руководить занятиями в клубы разных профессиональных агрегаций, на железную дорогу, на курорты, в дома отдыха, а в последние годы с ростом лечебной физкультуры они занимают довольно ответственные места инструкторов в лечебных заведениях, где они работают под руководством врачей, по преимуществу врачей физкультуры. Среди студентов возникали не раз сомнения, куда направить свои силы, какую деятельность избрать. При большом выборе это легче было сделать и тут возникал вопрос о выборе специальности. Не всегда он решался в сторону лучших материальных перспектив. Правда при далеко неодинаковой оплате труда искушения были иногда чрезвычайно велики, и молодежь шла по линии наименьшего сопротивления. Одно время было очень много желающих ехать на курорты, в дома отдыха, куда попадали иногда даже не окончившие ВУЗа. Очень низкая оплата труда в учебных заведениях и довольно однообразный труд мало привлекал, молодежь искала другого выхода. Семейные и другие обстоятельства побуждали иных заглушить в себе другие интересы и не очень заботиться о повышении квалификации и самоусовершенствовании. Но встречались и другие тенденции: некоторые по окончании ГЦИФК искали случая поступить на медфак в надежде увеличить свою компетенцию по физкультуре, другие этим меняли свой трудовой фронт. Окончившие оба ВУЗа находили себе место преподавателей физкультуры в ВУЗах, или поступали врачами в санатории, на курорты и т. д. Все поступившие в медфаки, интересовались научным контролем и будучи еще студентами, вели уже эту работу, помогая врачам. В общем, интерес к научному контролю у большинства студентов был очень велик. Это обусловливалось всего более тем, что нашей кафедре удалось с самого начала объединить и даже слить теорию с практикой. Кроме основных лекций по теории, которые я проводил на 3-ем и отчасти на 4-м курсе, читались еще вступительные лекции по гематологическому исследованию, по функциональной диагностике сердца, по гинекологии. Но самое большое внимание было обращено на антропометрические и биометрические исследования. С этой целью студенты не только знакомились с аппаратурой и методами исследования, но производил эти исследования друг на друге., закрепляя до некоторой степени навыки. Тут же давались подробные объяснения, демонстрировали результаты ранее произведенных исследований на диаграммах, таблицах и т. д., а в заключение проходили обучение обработки материала для учета произведенной работы. Обработка большого материала производилась по методам вариационной статистки, которым большинство студентов овладевало вполне.
Это было большое достижение, так как окончившие ГЦИФК, обладали достаточными техническими приемами, чтобы оказывать техническую помощь врачам, ведущим исследовательскую работу в школах, санаториях, больницах и т. д. Под влиянием лекций и практических занятий у студентов начал проявляться интерес «к самоконтролю». Д-р С. Баронов один из преподавателей Института показывал книжечки, как помнится, на испанском языке, где кроме «Памятки к спорту» имелись страницы незаполненные с вопросами, имеющим отношение к самоконтролю. С течением времени начали попадать и в мои руки такие книжечки-памятки на русском языку, куда физкультурники должны вносить свои достижения и разные заметки о состоянии здоровья. На лекциях я не раз демонстрировал такие книжечки студентам, побуждая их вести подобные записи в организованном порядке. Д-р Г. К. Бирзин, мой сотрудник по кафедре, ведший практические занятия со студентами по врачебному контролю и по курсу физиологии пополнил этот пробел, составил краткое, весьма ценное руководство по «самоконтролю». На русском языке это была первая запись достижений, облегчившая задачу систематических записей по физобразованию. Студентам представлялась полная возможность включать в свои дневники или памятки самые точные записи по антропометрии, извлекая данные из контрольных журналов и протоколов исследований, которые велись сеемым аккуратным образом в течение всего стажа.
Такие записи в журналах не должны были оставаться мертвым архивным материалом. Они обрабатывались правилам вариационной статистки и ежегодно по ним составлялся отчет и доклад. Мало того от времени до времени чаще всего по окончании курса представлялся учет всей работы по исследованию за более длительный период времени. По графическим данным, по кривым развития было можно ясно себе представить в какую сторону направляется это развитие. Лаборантка кафедры врачебного контроля А. Михайлова-Гиппенрейтер представила такой учет произведенных исследований за несколько лет, развернувший очень отчетливую картину развития и вместе с тем влияния всего школьного режима на организм учащихся студентов и студенток Института.
Значительно позднее самоконтроль сделался для студентов обязательной мерой. На средства Института были отпечатаны книжки для записей данных по самоконтролю; за правильным внесением всех данных следил «Интерпол» при кафедре д-р Лантыш. Я думаю, что и эта мера в достаточной мере стимулировала студентов, повышая их интерес к учету и контролю. Что интерес учащихся к врачебно-педагогическому контролю был значительный, показывает тот факт, что многие студенты при выборе дипломных тем останавливались на таких темах, которые включали исследовательскую работу по контролю. Нередко они пользовались каникулярными временем для осуществления работы на избранную тему и находили себе материал на стороне. Многие дипломные работы были очень удачны.
Во время физкультурных праздников или соревнований студенты ГЦИФК брали на себя различные общественные обязанности и помогали производству контрольных исследований, производившихся в большом масштабе.
В течение многих лет, работая в ГЦИФК, я убедился в том, что наши студенты принимали большое участие в физкультурном движении; этому содействовал главным образом ректор Института А. А. Зигмунд — основатель общества «Муравей». Это человек, горячо преданный физкультуре, заражал всех своим энтузиазмом и хорошим примером организаторской деятельности. Благодаря его настойчивости, организаторским способностям и юношескому увлечению, созывались Съезды и конференции по физкультуре, привлекавшие всегда многочисленную публику. Он умел хорошо обставлять эти Съезда, конференции, выставки и был всегда неизменным председателем НТК Высшего Совета физкультуры. Он всегда пользовался услугами студентов Института при организации конференций. Первая Всесоюзная конференция научных работников по физкультуре в 1925 году была очень удачная, он вызвала большой приезд делегатов. На конференции зачитано было немало очень дельных докладов, показавших, что интерес к научной работе чрезвычайно растет и постепенно накапливаются материалы исследовательских работ. Однако главный интерес был сосредоточен не вокруг этих докладов, а вокруг общих вопросов физкультуры и многих организационных выдвигаемых работниками на местах. Выдвинутые мною на 3-х докладах вопросы имели также актуальное для того времени. Это были вопросы: 1) о физупражнениях соревновательного характера, 2) о физкультуре дошкольников и 3) о дыхательных упражнениях. Мне пришлось докладывать не только о результатах исследований, произведенных кафедрой врачебного контроля, но и о спорных вопросах, требующих особой концентрации внимания к ним.
2-я конференция (в 1927 году) научных работников по физкультуре имела место также в Институте физкультуры, вызвала еще больший наплыв научных сил, собравшихся со всего Союза, и имела несколько иной характер. Конференция продолжалась около недели, заслушано было огромное количество докладов, имевших характер коллективных работ на определенные темы. Эти доклады представляли по большей части исследовательские работы по врачебному контролю. Обилие докладов с мест показало, что работа эта идет довольно удачно по всему Союзу и охватывает очень большое число врачей, видимо живо занимавшихся этим делом. Мой доклад был на тему «Критический обзор работ по изучению факторов и средств физкультуры».
Революция и высокий подъем, охвативший участников этой конференции, будет долго памятен. Он показал кроме того что развитие научной физкультуры не отстает от могучего физкультурного движения, охватившего массы. Голоса с мест сигнализировали о необходимости усилить и расширить научную работу по физкультуре, так как в будущем возможен прорыв. К сожалению, материальные возможности были незначительны, а также недостаток хорошо подготовленных кадров научных работников, недостаток руководств и других пособий были на лицо. На эту сторону было обращено самое серьезное внимание.
В предвидении недостатка в кадрах хорошо осведомленных врачей были организованы курсы по физкультуре для врачей Главсанупра (в 1923 году), Мосздравом (1923), а затем для курортных врачей (1925), для врачей-педологов (1925), курсы для усовершенствования врачей (1925), курсы медико — педологические, курсы врачей физкультуры, врачей ГИФО и т. д., но все-таки и этих кадров было мало, несмотря на то, что курсы повторялись ежегодно. Все яснее обнаруживалось необходимость в гораздо более широком и глубоком ознакомлении врачей с основами научной физкультуры и необходимость в их физической подготовке. Это могло быть достигнуто лишь при включении физкультуры в число основных дисциплин медфаков. Мне пришлось на очень многих Съездах и конференциях выступать с докладами и защищать эту идею, но для созревания ее в обществе пришлось ждать многие годы, пока она не была осуществлена в 1930 году путем законодательным.
Первые курсы врачей по физкультуре были организованы в 1923 году. Раньше всех других начались курсы врачам Главного Санитарного Управления. Они были повторные, краткосрочные, происходили в ГЦИФК и ГИФО. В ГЦИФКе курсанты имели возможность поупражняться и наблюдать за проведением уроков по физкультуре. Большинство из врачей, насколько мне помнится, имели уже некоторый практический опыт. Хуже состояло дело с врачами Мосздрава; курсы были краткосрочные, теоретические лекции происходили в Мечниковском Институте на Покровке и в Главной Военной Школе физического образования. В то время по физкультуре было еще очень мало пособий и представлялось мало возможностей развернуть программу преподавания так, чтобы слушатели могли извлекать для себя большую пользу по технике исследований. Что же касается практических занятий, то на первых порах пришлось ограничиться очень скудным показом физических упражнений. Труднее всего это было выполнить на таких курсах, где физкультура преподавалась как новый предмет на курсах переквалификации или усовершенствования врачей, а таких курсов было немало: курсы для врачей курортологов Моно, физиотерапевтов (ГИФО), железнодорожников, курсы усовершенствования врачей и т. д. Этот пробел чувствовался как лекторами, так и слушателями, и очень трудно было его пополнить. Я лично очень много употребил труда, чтобы хоть сколько-нибудь наладить практические занятия среди моих слушателей. Это мне удалось с трудом, так как всегда находились материальные и другие отводы для моих ходатайств, но когда мне удавалось добиться чего-нибудь, то молодые врачи и пожилые охотно принимали участие в этих занятиях, руководство которыми я всегда передавала опытным инструкторам-активистам и они всегда показывали свое умение расшевелить довольно инертную массу почти совсем не подготовленную даже к самым простым упражнениям. Самочувствие их все-таки заметно улучшалось после уроков, и они готовы были поверить, что физупражнения полезны не только детям и пациентам, на которых они готовы были производить эксперименты, но и для них самих. Словом, если не всегда можно было быть уверенным, что краткосрочные курсы по физкультуре могут дать немного прочных знаний по теории, на основании которых можно уже смело выводить дальнейшую постройку при благоприятных обстоятельствах, то всегда во всех случаях нельзя было сомневаться в благоприятном посеве, который должен дать хорошие ростки, так как почва была достаточно обработана и живой интерес к новому делу был возбужден в полной мере, больше того — можно было ждать проявления инициативы в отношении организации научных работ и помощи в правильном организации физкультурного движения.
Беседы с врачами и затем встреча с учениками моими на конференциях, меня вполне убедили в этом. Другое значение имели открывшиеся в мае 1926 года курсы для усовершенствования врачей по физкультуре, так как тут уже вырабатывался профиль будущего врача физкультурника специалиста, который должен был овладеть всеми методами исследования в направлении врачебно-профилактическом. Предполагалось, что такой врач, выполняя оздоровительные функции, главное внимание обратить на профилактику и для этой цели использует все средства физкультуры, основательно ознакомившись с ними и с их влиянием на организм. В СССР к тому времени широкое развитие получили уже дома отдыха. Профилактории, диспансеры, санатории, физкультура начала развиваться в промышленных предприятиях, она начала все более принимать массовый характер и потому число точек приложения сил для врачей физкультурников с каждым годом очень увеличивалось. К этой категории врачей должны были быть отнесены врачи-педологи, выпускаемые организациями ОЗДиП, которые также должны были работать по профилактической линии, физкультура и для них не должна была быть филькиной грамотой, да еще за семью печатями. Но все-таки производство врачей-специалистов по физкультуре, несмотря на эти частичные мероприятия, было очень скудное и особенно на периферии Союза их было чрезвычайно мало.
Весьма естественно было стремление поднять физкультурную квалификацию всех врачей на более высокую степень и дать возможность всем врачам в период их пребывания на школьных скамьях в ВУЗах знакомиться с теорией физкультуры и приобретать по ней моторные навыки, столь полезные для поддержания здоровья.
Большой бедой было то, что очень было лиц, способных вести преподавание по теории физкультруы и кроме того совсем мало было руководств, которыми врачи и студенты медики могли пользоваться для обогащения своих знаний и своего жизненного опыта в этом направлении. Лица, писавшие книги по физкультуре, избрали более легкую часть: они обрабатывали отдельные темы по разным видам спорта, по атлетике, по играм, по гимнастике, но не могли или не желали осилить более сложный труд по физкультуре в целом, заключающий не только методику преподавания, технику движений, но также их влияние на организм в целом. Нельзя сказать, чтобы было мало научного материала по этому последнему вопросу, но личный опыт был крайне ограничен также как и литературная осведомленность. Нужно было взяться за эту сложную и ответственную работу и я, не взирая на свою чрезвычайную занятость, принялся за составление подобных книг, не пытаясь сразу ответить в большом руководстве на все вопросы, которые ставит жизнь.
Я подошел к большой теме с двух сторон. Я работал, прежде всего, над составлением научно-популярной книги, доступной для врачей и педагогов в направлении охраны здоровья, занимающихся физкультурой и желающих укрепить свои силы и здоровье, благодаря этим занятиям; с другой стороны я задумал большой труд, назвав его «культура тела» (1927), в первой части которого я собрал все самое необходимое, касающееся моторики, т. е. биотехники движений, применяемых при занятиях физкультурой… В этой части я почти не касался методики обучения этим движениям в разных конкретных случаях, а потому эта первая часть может быть вводной частью к более полному руководству. Первая книга «Гигиена физических упражнений и спорта» дает научные основания для охраны главным образом личного здоровья физкультурника, а потому трактует о реакциях организма на физупражнения и оценивает гигиеническое значение одежды, обуви, питание спортсмена и т. д. Эта последняя книжка вышла в 1930 г. вторым изданием, значительно дополненным благодаря накопившемуся опыту. Обе эти книги скоро разошлись и опять мои слушатели жаловались на отсутствие книг по физкультуре.
Подготовка врачей по физкультуре представляла, правда, солидную базу в деле физкультуры, строительства, но конечно, не единственную. Нужны были, прежде всего, педагоги-инструктора-методисты, проводники физкультурной практики в широкие массы.
Благодаря указаниям ЦК партии и Правительства создались различные типы физкультурной подготовки применительно к тем условиям, в которых должны были действовать инспектора-педагоги (вузы, втузы, трудовые школы, профсоюзы, клубы, массовая работа). Эти разнообразные по своим программам и по длительности обучения физкультурные школы увеличивались в числе и улучшались качественно; но и их было мало, чтобы удовлетворить колоссальный спрос.
Пришлось организовывать и открывать все новые и новые краткосрочные курсы и снабжать их пособиями и преподавателями. Такие курсы широко начали развиваться после революции и я писал уже о том, какое развитие они получили в бытность мою в Самаре.
В Москве с самого начала моего приезда были уже такие курсы. В течение многих лет я получал ежегодно очень много приглашений в качестве лектора на разных курсах. Я счел своею обязанностью быть проводником физкультуры не только учащихся, но и в самых широких массах, никогда не отказывался от несения подобных обязанностей, как бы мне ни было тяжело порой подобное совместительство.
Успех, который я имел всегда на этих курсах, мне кажется, был всегда вполне заслуженный, так как я проводил их всегда с большим подъемом и всегда готовился к лекциям и выступлениям, избегая трафаретов и повторений одного и того же.
Хотя форма обучения была, по преимуществу, лекционная, этого требовал краткий курс преподавания и от этого зависящие быстрые темпы, но предо мною никогда не были просто слушатели, которых нужно было начинять просто знаниями — от такой роли я бы сразу отказался, но я вовлекал слушателей в беседу, сам наводя их на те или другие вопросы, чтобы не тратить время на ненужную болтовню. Я очень быстро овладевал аудиторией и по многим, едва уловимым признакам, нащупывал и настроение и то, усваивается ли содержимое лекции-беседы. Поток записочек с вопросами я старался направить на ту мельницу, которая перемалывает те крупицы знаний, которые даются на подобных краткосрочных курсах и спорадических лекциях. Я старался ни одной записки не оставить без ответа, сортируя их так, чтобы существенные для дела вопросы нашли себе тотчас же разрешение, а ненужные, дикие вопросы, не относящиеся к делу осторожно отклонить, вызывая авторов записок на сепаратные разъяснения. С каждым годом содержание вопросов было все более и более полноценным, «глупые вопросы» или не задавались или находили протест в аудиториях. Я все-таки укажу названия некоторых лекций курсов, чтобы иметь понятие об аудитории, в которой мне приходилось выступать в течение многих лет.
Самые большие аудитории были в домах отдыха, на фабриках, на предприятиях разного рода, в клубах и учреждениях. Но всегда это были спорадические публичные лекции на заранее намеченную тему; иногда это были серии лекций, где выбор предлагался заранее и устраивался своеобразный плебисцит.
В домах отдыха я проводил лекции в Хорошеве (Серебряный бор), три года подряд в Звенигороде и в Тарасовке в разное время. Обыкновенно я получал дачу в вознаграждение за лекции, читаемые еженедельно. Темы этих лекций касались гигиены, физкультуры, факторов природы: солнце, воздух и вода, организации наземного отдыха, но очень часто я вел беседы и на другие темы, напр. : «Предрассудки и вредные привычки быта», «Мнимая смерть в природе», «Помощь при утоплении и при других несчастных случаях», «Работа, труд и отдых» и т. д.
Лекции почти никогда не проводились в закрытых помещениях и по возможности носили увлекательный характер, чтобы избежать утомления. Часто лекции устраивались на полянках или у опушки леса, причем слушатели располагались на траве, на пеньках и кочках, образуя порой очень живописные группы. С песнями шли на такую лекцию и с песнями возвращались, по дороге продолжалась беседе, порой на самые интимные темы личной гигиены.
В определенные дни устраивались консультации, которые были для меня очень полезны в том отношении, что я ближе знакомился с жизнью и бытом на фабриках, в семьях и с трудностями той или другой роботы.
В результате такого общения с рабочими и служащими на фабриках и заводах я очень часто получал приглашение прочесть лекции в клубе на ту или другую, большею частью злободневную, тему. Например, как использовать для здоровья надвигающуюся зиму или наступающее лето, как организовать отдых или наладить у себя на фабрике физкультуру.
Когда приходилось читать в различных учреждениях, то предлагаемые мне темы были иногда другого характера, например «Умственный и физический труд, их влияние на нервную систему», не раз предлагалась тема «О красоте и здоровье». Предлагались темы по воспитанию детей разных возрастов, темы по половому воспитанию и т. д. Таких лекций, произносимых в больших аудиториях, я насчитывал ежегодно многими десятками.
В Москве я провел очень много систематических курсов с целью повышения квалификации педагогов и инструкторов по физкультуре. В 1922 г. я прочел серию лекций о подростках в гуманитарном институте. На Высших научно-педагогических курсах (Старая Конюшенная), в Университете Шанявского (Свердловский университет), в Педогогическом институте (Б. Бронная), Институте детских игр и т. д. В I, — з году по поручению Моно в июне месяце я провел систематические курсы, так называемые пролетарские курсы для дошкольниц, подготавливающихся к занятиям на фабриках, заводах и в сельской обстановке. Это была молодежь, не получившая широкого образования, но грамотная и чрезвычайно увлекающаяся новым делом и жадно воспринимающая всякие занятия.
Хорошо помню краткосрочные курсы в опытно-показательной школе Радищева, курсы для детских домов школьного возраста, курсы для центрального комитета водников по воспитанию детей школьного возраста. Курсы по физкультуре в Высшей Военной педагогической школе, Высшей стрелковой школе и т. д., прочтенные мною в 1923 г.
В 1924 г. я провел систематические курсы по охране здоровья детей для учителей железнодорожных школ Курской и Ярославской ж. д., начав из в июне месяце. Осенью я поступил преподавателем детской и школьной гигиены и физкультуры в Московский Политехнический техникум, на этих курсах я был преподавателем года два. В 1925 г. в ноябре я провел курс по физвоспитанию пионер-вожатым (Стенографический отчет об этих лекциях издан в особом сборник, см. литература). Я очень остался доволен этими лекциями-беседами, так как убедился в том, как нужны знания этой молодежи, как она из ценит и как хорошо и эмоционально она относится к лекциям, когда они подносятся в подходящей форме. В августе 1925 г. я провел серию лекций по переподготовке преподавателей Педагогических техникумов СССР, во 2-м Московском Университете.
В 1926 г. в январе месяце я читал ряд лекций, сопровождавшихся беседами в Высшем Политико-Просветительском Институте на тему « игры и отдых». 16 мая я провел курс по физкультуре инструкторам ВЦПС (врачебно-педагогический контроль), в июне прочел ряд лекций на курсах Социально-Правовой Охраны Несовершеннолетних (СПОН) «Гигиена и физкультура на детских площадках», в августе цикл лекций на центральных курсах по подготовке пионер-работников (опытно-показательная школа имени Радищева). В октябре 1926 г. Наркомпросом (отдел подготовки Педагогического персонала Главсоциоза) была создана конференция по физвоспитанию и мне был поручен цикл лекций по физкультуре на разные темы для участников конференции, а затем в ноябре эти курсы были продолжены и включены темы: по гигиене труда детей и подростков, о труде с политехническим уклоном, а также сельскохозяйственного и по самообслуживанию. К этому приложен был конспект и тезисы. В 1927 году в феврале месяце курсы по повышению квалификации учителей были повторены Наркомпросом и мне поручен был курс по научному контролю (врачебно-педагогический контроль 12 часов) и по биологическим особенностям растущих (8 часов). В марте повторены были курсы по повышению квалификации железнодорожных инструкторов по физвоспитанию (анализ видов физупражнений). В 1928 году я прочел серию лекций по повышению квалификации через физкультуру для инженеров транспортников (Вожедомский пр.) В июне того же года прочел ряд лекций по физкультуре учителям Моно.
В 1929 году я не раз выступал с лекциями на разные темы по радио, занимался с кружком студентов 1-го Московского Университета по лечебной физкультуре на курортах, осенью этого года провел краткий курс вступительный в Торгово-промышленном институте. В 1930 году количество курсов и публичных лекций у меня значительно сократилось, и я постепенно стал расширять другую работу, продолжая читать лекции на разных курсах усовершенствования врачей, о которых писал раньше.
Я продолжал читать лекции и вести научную работу в институте физкультуры. В 1930 году мне пришлось жестоко перегрузиться лекциями на разных курсах ГУ ГЦИФК. Помимо обычных курсов по врачебному контролю, физкультуре слабого ребенка, я должен был взять на себя чтение лекций по теории физкультуры и ее методике. Этот курс вел В. К. Стасенков, но в середине года ему пришлось уйти из Института и он просил меня заменить его, по этой причине перегрузка была очень велика, так как пришлось читать на двух курсах, которые были разделены на несколько групп, а потому почти на каждый день приходилось по 3-4 часа лекций подряд. Это меня очень утомляло, так как я жил на расстоянии почти часа езда на трамвае от института и кроме того все мои часы были разобраны и на отдых ничего не оставалось. Но не только в этом заключались трудности. Работа в институте никогда не была легкой: лекции, заседания и производственные совещания по кафедре, исследовательская работа и консультации по ней, педагогические совещания, научные заседания всего института, конференции и т. д. отнимали очень много времени, тем более, что работа была и в дневные часы и по вечерам, а это требовало затраты времени на езду около 3-4 часов в переполненных трамваях. С каждым годом мне все труднее и труднее было тянуть эту трудовую лямку и, если я не менял этого дела на другое, то только потому, что вложил на него массу энергии и здоровья, а кроме того мы оба, я и Вероника проявили много инициативы и творчества на всю физкультурную работу в стенах этого учебного заведения, что очень трудно было отказаться от дальнейшего ведения дела.
Положение института, как это ни странно, никогда не было прочно. С первого дня моего поступления носились слухи о слиянии двух институтов, Московского и Ленинградского в Ленинград.
Не могу судить о том, насколько основательны были эти слухи и где были их источники, но по правде сказать, очень неприятно работать, находясь под Домокловым мечем этих возможных перемен, почти каждый год слухи возобновлялись с новой силой и некоторые непорядки, недоделки, казалось, оправдывали эти слухи.
Почти каждый год пересматривались программы и учебные планы и это было не так плохо, если бы заседания по пересмотру не были так часты, длительны, скучны и малопроизводительны. Со всею очевидностью можно было иногда в том, что разговоры ничем серьезным не кончатся, что произведут едва заметные изменения. Это было тем более вероятно, что для больших реформ не было достаточных материальных средств, да, пожалуй, нет и согласия между спорящими. Меня эти заседания с бесконечной и тягучей болтовней, где каждый высказывался очень пространно, не щадя времени, до крайности утомляли. Я возвращался домой совершенно разбитым. Из-за организационных и программных вопросов не оставалось времени на обсуждение других, более интересных, принципиальных, научных вопросов. Очень трудно было найти выход из этого положения.
Даже на заседаниях нашей кафедры, где собирались работники, чтобы обсудить детали своей научной работы, все время уходило на хозяйственную и организационную часть. Когда же был поставлен вопрос о согласовании учебной и научной работы между смежными кафедрами и о выработке программ, без накладывания и без ненужных повторений, а также о сокращении программ — тогда не предвиделось конца спорам.
Такие споры о программах и о новых методах преподавания с наибольшей силой проявились в 1930 году, когда объявлен был коренной пересмотр программ и методов преподавания.
Программы очень разбухли, число рабочих часов у студентов увеличивалось, у них не хватало времени на подготовку и на достаточный отдых. Во многих программах по смежным предметам встречались повторения, не замечалось преемственности и связи между отдельными дисциплинами, наблюдалось вторжение в чужую область.
Словом, урегулирование и рационализация при обучении сделались совершенно необходимыми, но как всегда бывает в этих случаях, преподаватели неохотно соглашались на урезку часов, на изменения в программах, к которым привыкли. Что касается методов пребывания, то с самого начала революции многим профессорам было совершенно ясно, что должна совершиться радикальная революция, как теории, так и по практической линии. Эта грядущая реформа многократно обсуждалась, произносились горячие речи в пользу новых методов преподавания, методах Дальтона, лабораторного метода, метода разработки тем, бригадного метода и т. д., но и дальше разговоров дело не шло. Студенты, зная об этом, волновались, жаждали перемен, н реформы производились медленно и не всегда удачно. Когда объявлено было студентам о производственной практике, обещающей внести живую струю в преподавание и непосредственный подход к делу — студенты с большим интересом отнеслись к этой новой форме работы, но тут же испытывали иногда различные разочарования. Они объясняли неполадками в организации, заставлявшими их нередко непроизводительно тратить рабочее время на излишнюю беготню, ожидание и даже ничего не делание, с другой стороны на производственную практику, так что много времени не оставалось для проработки теоретического материала, а иногда, как говорили студенты, и для физподготовки.
Проведение производственной практики потребовало пересмотра программ обучения и возможного их сокращения. Это вызвало ряд заседаний с бесконечными прениями. Большинство преподавателей высказывалось не по существу дела, не о том, что надо сократить или изменить и почему это сделать необходимо, а предлагало разные комбинации, которые носили временный характер и почти ничего по существу не меняли. Для многих важно было сохранить свободные часы и позиции; общий комплекс педагогического процесса и профиль всего учебного дела института их мало трогал. Были, однако, некоторые лица, которые отстаивали принципиальные педагогические точки зрения, но таких было мало. Между тем радикальный пересмотр программ учебного плана и методики преподавания был, безусловно, необходим, наступил момент, когда нужна была самая строгая и детальная оценка каждого предмета преподавания с самой объективной, беспристрастной точки зрения.
В революционное и дореволюционное время мне очень часто приходилось бывать свидетелем борьбы общих интересов с частными. Многопредметность в учебных заведениях средних и высших всегда было трудно изжить, потому что этот вопрос о ликвидации или сокращении всегда затрачивал материальные интересы педагогов.
Но сколько было ненужных предметов преподавания, сколько было преподавателей взявшихся не за свое дело, мертвящих своими методами и своим неумелым подходом живое дело, а потому всякий раз, когда возникал вопрос о пересмотре программ, или спор о том или другом предмете преподавания личная заинтересованность била ключом и картина борьбы за тот или другой предмет, за тот или иной метод преподавания носил очень часто жалкий, отталкивающий характер, обнаруживалась не борьба за принципы, а за материальные личные интересы, где вопрос о куске хлеба не был самым главным. Ловкачи, изворотливые ораторы, побивали боле скромных, не умевших хорошо аргументировать даже свои справедливые принципиальные требования и все оставалось на прежнем месте — «возу все не было ходу», а иногда и вырастал неимоверно после дебатов о сокращении, от этого учащиеся ничего не выигрывали. После революции голос учащихся стал чаще раздаваться на педагогических советах и это было хорошим предзнаменованием в пользу улучшения методов преподавания. По понятным причинам учащиеся подымали свой голос против того, что их беспокоило и угнетало, но они были очень мало подготовлены к суждению о том, какое место в педагогическом процессе школы может занимать тот или другой предмет среди других школьных дисциплин и когда этот вопрос публично обсуждался, нельзя было не считаться с мнениями студентов, но они не всегда могли быть основательны, в лучшем случае они имели местное значение.
Когда в ГЦИФК начался пересмотр программ, поднят был вопрос и о методах преподавания.
Программы были чрезмерно запружены, а реальная помощь со стороны преподавателя по отношению усвоения учебного материала была очень недостаточна. Господствовавший в то время лекционный метод преподавания, утомлял студентов. Слуховые восприятия притупились, мало помогали и беседы к концу лекций. Теоретическую часть не только надо было сократить, но надо было найти способ к увеличению активности и самодеятельности студентов. Проектов было много, преподаватели готовы были принять любую систему. Лекционная система напоминала студентам старую высшую школу со всеми ее недостатками и потому стала совершенно ненавистной. Также относились студенты к экзаменам, о которых они не хотели слышать и, взяв в этом вопросе инициативу, являлись на «зачеты» коллективами. Это было недурно, так как зачет происходил не келейно, а в присутствии всех студентов, но студенты требовали, чтобы и ответы на вопросы экзаменаторов давались всем коллективом. Получался курьез: экзаменатор обращается к студенту, а за него отвечает кто-нибудь другой из той же группы. При этих условиях чрезвычайно трудно было разобраться в том, кто знает, и кто не знает; иногда отвечали хором, немало труда стоило, чтобы восстановить какой-нибудь порядок. Вскоре и студенты сознали свою абсурдность подобных зачетов, на которых сами настаивали. С каждым годом сознание ответственности росло, преподаватели не могли ручаться за хорошее усвоение пройденных курсов, а студенты сами стали заботиться о повышении своей квалификации и сами начали требовать более основательной и более частой проверки знаний. Это было очень отрадным явлением, но тут же сам собою возник вопрос, что нужно для того, чтобы знакомство со студентами и оценку их знаний и приобретение опыта сделать более полным, увеличив в то же время их объем знаний.
Провалившаяся лекционная система преподавания была заменена другими методами, но не один из этих методов не прививался скоро.
Причин, объясняющих это повсеместно во всех ВУЗах явление, было много: так, например, лабораторный метод и метод Дальтона не мог дать особо хороших результатов, потому что не было достаточного количества пособий и книг, а кроме того каждым новым методом преподаватели не могли так скоро овладеть и студенты к нему привыкнуть. Многие методы, как например, метод проектов и другие вызывались иными соображениями и к методике обучения мало имели отношения.
Пересмотр учебных планов и программ обучения, а также искание новых методов лучшего усвоения и образования технических навыков потребовало очень много времени, тем более, что программы, рекомендуемые извне раза 2 в год менялись. Студенчество нередко оставалось без учебников и почти без руководства, так как профессора, заведовавшие кафедрами, должны были передать преподавание младшим своим помощникам, а сами иногда ограничивались общим руководством и вводными лекциями. Предполагалось при этом, что при этом методе самостоятельная обработка учебного материала лучше выявится.
В конце декабря 1929 года начались объединенные заседания лабораторий, а затем общие Педагогические конференции по пересмотру лабораторных занятий и программ обучения с целью их решительного изменения и лучшего приспособления к новым установкам в связи с разрастающимся физкультурным движением и требованиями с места, выяснившимися на третьей научно-методической конференции по физкультуре. Я считаю, что самая продуктивная работа велась в тех случаях, когда пересмотр учебных программ начал производится по отдельным родственным циклам, например, анатомия, биология, физиология, химия, физика, врачебный контроль, гигиена. Хотя на заседаниях, которые происходили под моим председательством или под председательством проф. Рудика происходили довольно горячие споры об объеме того или иного предмета, о пограничных областях, о методах преподавания, тем не менее из споров выяснялись недостатки и выдвигались те или другие положительные стороны. Опыт других ВУЗов, в которых участвовали в качестве преподавателей наши товарищи, имел также большое значение; но проверить успешность применения новых программ и методов преподавания в ГЦИФК мне не пришлось, так как я в феврале 1931 года оставил Институт, перейдя на другую работу. Для такого решения у меня было много причин, между прочим отдаленность этого места службы от моей квартиры, трамваи до такой степени были перегружены, что продолжительные переезды для меня сделались настоящей пыткой, особенно, если приходилось в случае вечерних заседаний совершать эти трамвайные рейсы 2 раза в день, на что тратилось около 4 часов на один проезд, кроме того, атмосфера Института начала в моих глазах ухудшаться, налаживать коллективную работу в этих условиях было чрезвычайно трудно, и я воспользовался поводом для отказа.
Работа моя в Московском Педтехникуме не была продолжительной и не была основной. Она началась после переезда Главной Военной Школы физического образования в Ленинград, в 1924 году, в июне месяце. Я начал там свою работу в качестве преподавателя гигиены и физкультуры. Мне было крайне удобно то, что Педтехникум переселился в то здание, где я жил, и я сберегал время на переезд.
Мне было очень приятно вести занятия с юной молодежью, очевидно очень заинтересовавшейся этим предметом преподавания. Интерес выявлялся не только во время урочных занятий, но и из бесед. Нередко мне случалось вести специальные беседы на ту или другую тему ими предложенную. Их очень интересовал половой вопрос, и я не раз проводил такую беседу в конференц-зале при большом стечении народа. Не избегал я ми разных консультаций с учащейся молодежью, у которой просыпался большой интерес не только к практическим, но и теоретическим обоснованиям. С переездом на новую квартиру на Глазовском переулке я не мог уже посещать это учебное заведение и должен был отказаться от занятий с некоторым сожалением. Но и после оставления этой службы я не переставал интересоваться Педтехникумами — этими очагами просвещения, готовящими кадры учителей в средних и низших школах и, когда мне было предложено принять участие в составлении руководства по физкультуре для заочников (теоретические обоснования для готовящихся заочно пройти курс Педтехникума) я с охотою взялся за это довольно трудное дело. Договор с ЦИЗПО был заключен в конце ноября 1930 года, и 15 печатных листов моей рукописи были сданы в июле 1931-го года.
Я проработал все лето, живя в Тарасовке над этой книгой, в конце сентября она была сдана для вторичного пересмотра, а затем в нее внесли некоторые поправки, добавления, исправления в связи с новыми программами. Я вновь проделал всю эту работу, несмотря на много других дел. В результате оказалось, что моя рукопись не могла быть напечатана вследствие изменения во всем издательском деле, и я остался без вины виноватым с дубликатами рукописи, напечатанной на машинке. Оригинал остался в издательстве — до более счастливых времен до того, когда бумажный голод прекратился. В 30-м году была напечатана тем же издательством для заочников краткая «Гигиена физических упражнений», очевидно тогда дела Издательства были лучше.
Еще того раньше в 1928-29 учебном году вышло краткое руководство на тему: «Советская физкультура». Эта книга была мной написана в 2 месяца, несмотря на страшную перегрузку. Написана она была по заказу бюро заочного обучения пр 2-м Московском Университете. Она скоро разошлась, и я получил заказ на 2-е издание. Оригинальное обучение заочников через письменные корреспонденции научили меня многому. Книга предназначалась заочникам Университета. Среди них было много учителей с довольно большим стажем, но были и молодые люди. Все они, прикрепленные к данной местности профессиональными занятиями через заочное обучение, стремились пополнить свое образование. Их корреспонденции были интересны, между прочим, тем, что, отвечая на предложенные вопросы, они характеризовали физкультурные и гигиенические мероприятия на местах, описывали игры и другие занятия в той области, где жили. В большинстве случаев они интересовались физкультурой и находили предложенный им учебник для заочников очень полезным.
Предполагалось, что заочники будут от времени до времени съезжаться на конференции и для зачетов. Конференции эти выяснили многие недостатки в организации дела, которое привилось и начало быстро развиваться. Этот непомерный рост кадров и потребность в новых и новых учебниках был причиной недостаточности издательского аппарата. Потребность в бумаге для печатания книг была громадная, а количество ее совсем неудовлетворительно. В этом была трагедия всего дела.
Во 2-м Московском Университете я работал с 1923 года не только по физкультуре. Я состоял преподавателем по детской и школьной гигиене, по физиологии и гигиене труда и на дошкольном отделении по физвоспитанию.
Здесь я расскажу в кратких словах про те курсы, которые мне пришлось проводить в стенах Университета по физкультуре (по теории).
Насколько помню (моя записная книжка-календарь была утеряна в …г.). первые специальные лекции для всех факультетов по физкультуре я начал читать в 1926 году по предложению ректора А. П. Пинкевича. Общефакультетские объединенные лекции, которые могли происходить только в самых больших аудиториях 2 МГУ, на мой взгляд, могли иметь только агитационный характер среди студенчества, так как практические занятия для такой массы нужно было сначала сорганизовать, при данных условиях это было нелегко сделать: не было необходимого помещения и оборудования.
Имея ввиду исключительно агитацию, я начал читать лекции, придав им характер вводных по теории физкультуры. Вскоре оказалось, что все студенчество готово не только слушать лекции, но и принять самое деятельное участие в практических занятиях.
Студенты хорошо поняли, что их личная физподготовка в большинстве случаев совсем незначительна, более того у многих она совершенно отсутствует, а между тем состояние физразвития явно неудовлетворительное, констатируемое и без врачебного контроля, которое при приеме студентов совсем не существует. Желание заниматься физкультурой так было велико, что я написал об этом докладную записку в деканат, прося оказать помощь в этом деле. В результате мне предложено было взять двух ассистентов и подыскать помещение и тогда видно будет, как поместить в сетку или вне ее часы занятий. Подыскать более или менее подходящее помещение я поручил А. А. Захарову и Каспиевой, очень опытным инструкторам, весьма интересовавшимися работой в высшем учебном заведении.
После долгих исканий пришлось убедиться, что подходящего помещения для большого числа студентов, по крайней мере, в данном сезоне найти невозможно, а потому необходимо было довольствоваться аудиториями Университета, которые к таким занятиям совсем не были приспособлены. Ассистенты мои кое-как с величайшим трудом наладили занятия и возбудили еще больший интерес к физкультуре среди студенчества, но охватить все курсы и факультеты, конечно, было невозможно.
Я предложил моим ассистентам перенести хоть часть занятий на Университетский довольно обширный двор, но тут встретились следующие препятствия: двор был завален ящиками, бочками, досками; кроме того на нем были целые курганы земли и мусора, вывезти все это можно было или весною, или летом.
Об этом ассистенты ходатайствовали, но дело с очисткой двора продвигалось медленно, а когда наступило лето, часть пространства перед стенами Университета, было занято под огород, где были насажены лекарственные растения, имеющие значение при преподавании фармакологии и фармации.
Благодаря этому, не удалось использовать Университетский двор для волейбола, футбола и других физкультурных занятий под открытым небом, как предполагалось. В этом может быть были виноваты и мы сами, не проявив особой настойчивости.
Потерпев фиаско, мы должны были продолжать попытку в приискании помещения для занятий физкультурой и площадок для спортивных игр вне университета, но до этого времени этот вопрос является почти неразрешенным, так как занятия происходят в очень мало подходящем помещении, совсем не соответствующем охвату физкультурников всех курсов и всех отделений Университета, разбившегося на Институты.
Несмотря на все эти чрезвычайно стесненные обстоятельства, практические занятия велись в отдельных комнатах Университетского здания и физические упражнения, производимые иногда под музыку (Марья Владимировна Былова) проходили довольно удачно, в чем я мог убедиться, присутствуя на этих занятиях и производя зачеты.
В 1930 году с осени 2 МГУ был преобразован и распался на Институты. Педагогический Институт имел около 13 отделений по разным специальностям. Физкультура выделена в особую кафедру, заведывание которой было поручено И. М. Яблоновскому. Преобразование коснулось и учебного плана и программ преподавания, которые были вновь и вновь пересмотрены.
Нужно было рассказать длинную повесть о том, как программы эти перерабатывались и изменялись, чуть ли не два раза в год, сколько времени было потрачено на эту работу в бесконечных заседаниях и в учебных заведениях в Наркоме по просвещению. Но и теперь после преобразования «программная лихорадка» не кончилась, она трясла нас еще больше, так и теперь в частности по физкультуре — представленные программы многих не удовлетворяли, а носили какой-то лоскутный характер. Акцент был положен на практические занятия, и теория низведена была до вводных лекций. Чтобы оттенить значение физподготовки, практические занятия сопровождались краткими пояснениями теоретического характера, которые давались инструкторами и практиками. Весь теоретический материал был разбит на отдельные темы и был связан с практическими занятиями учащихся и так как практические занятия должны были соответствовать сезонам (лыжи — зимой, плавание летом и т. д.), то получалось довольно пестрая картина при разбивке материала на темы. Систематический курс по теории трудно было уложить в эти темы и последовательность изложения нарушалась. Этим достигалось неоспоримо то, что летом …. ду нанесен был жестокий удар, чего и добивались студенты.
Физкультура в ВУЗах выиграла, однако в том, что физподготовке студентов отведено было значительное место. Она осуществлялась во всех отделениях, на всех курсах сделалась обязательной, после врачебного контроля, который сделался обязательным для всех студентов и производился главным образом для того, чтобы отсеять тех, кто не мог заниматься физкультурой. Учащиеся были разделены на 3 группы: здоровых, слабых и таких, которым физупражнения были или совсем запрещены или запрещены временно. Так как первых было немного, то охват физкультурой был большой, и во всем институте занимавшихся физкультурой было огромное число студентов. Такой контингент лиц удовлетворить спортплощадью было нелегко, и приходилось изворачиваться на разные лады. Выход был найден отчасти в том, что в зимнее время представлялась возможность ходить на лыжах в разных местах Москвы и ее окрестностей, плавать можно было в теплое время года в Москва-реке на водной станции, а в холодное время года в ближайших бассейнах. Труднее всего было найти помещение для регулярных занятий по физкультуре как практических, так и теоретических. Приходилось довольствоваться разными случайными помещениями и только спустя год найти в Тихомировском корпусе довольно приличную комнату, превращенную в гимнастический зал и соответственно ее оборудовать, но и это не было решением задачи, которая и до сих пор остается нерешенной.
Я считаю правильным то, что на физподготовку студентов было обращено было мое серьезное внимание — для чего физкультура введена была на всех отделениях (факультетах) и на всех курсах, так как молодежь поступала в ВУЗы с недостаточным физразвитием; среди нее было много лиц с пониженным общим питанием, слабосильных и с зачатками хронических болезней. Это обнаружилось на врачебном осмотре и контроле.
Оздоровительные моменты физкульутры по сути должны были быть выдвинуты на первый план. Однако условия для выполнения этой задачи были совсем неблагоприятны: общежития студентов не отвечали самым минимальным требованиям и студенты не научились еще этот санминимум соблюдать там, где они живут и даже там, где учатся. Санитарная гигиеническая пропаганда среди них проводилась слабо и подготовки к сознательному, научно-мотивированному санитарно-гигиеническому обслуживанию они почти не имели, так как нельзя было считать подготовкой писанные регламенты, плакаты, даже дни всеобщей чистки. От студентов ВУЗов, даже будущих педагогов можно было бы требовать гораздо больше. Поступая в качестве профессора в Университете, я рассчитывал на многое и готов был …. малую помощь по части санитарии и гигиены, работая на Педфаке. Читая лекции по физвоспитанию на дошкольном школьном отделении, я уделял значительную часть времени по вопросам детской и школьной гигиены, и судя по зачетам, по беседам и конференциям, кажется достиг неплохих результатов. Студентки дошкольницы со своей производственной практики иногда в очень отдаленных местах РСФСР в своих отчетах о производственной работе показывали на деле, как они справляются с серьезной задачей санитарного просвещения на местах и проведения в жизнь санитарного минимума. Мало того они проявляли очень часто свое умение в борьбе с заразными болезнями, показали, что они могут быть недурными организаторами и санитарно-гигиенической помощи там, где здравпункты были уже организованы; тут они действовали не самостоятельно, а в качестве ударниц, защищали интересы дошкольников, попечение о которых им временно поручалось. На школьном отделении 2-го МГУ мое личное влияние на студентов было менее значительно, так как число часов, отведенное на занятия со студентами этого отделения было очень ограничено (я читал на первом курсе по физвоспитанию с уклоном в сторону двигательной культуры). В течение ряда лет я встречал всегда одно и тоже: очень слабую подготовку или полное ее отсутствие по анатомии, физиологии и биологии. Среди моих слушателей и слушательниц было немало лиц со значительным педагогическим стажем, так как в Университет поступали очень часто педагоги, желавшие повысить свою квалификацию. Молодежь, окончившая недавно школу семилетку с этими «старичками» смешивалась и это было неплохо, но и молодежь выказывала удивительную неподготовленность в указанном направлении. Это не было предусмотрено программами, а потому приходилось пополнять эти огромные пробелы в образовании, даже на лекциях по физвоспитанию и физкультуре. Недостаток пособий и почти полное отсутствие учебников до чрезвычайности осложнял задачу лектора инее было никакой фактической возможности пополнить этот недостаток знаний, как словесным путем и показом некоторых пособий лично моего изготовления в Самаре. Изготовляя чертежи и рисунки в Самарском Университете, я никак не мог предвидеть того, что они пригодятся мне в Московском ВУЗе. Все заявки мои на приобретение учебников и пособий было по понятной причине безрезультатны. Учебная часть Педагогического факультета как-то странно относилась к физкультуре. Было время, что физкультура как таковая, почти не признавалась вовсе, как отдельная учебная дисциплина — она отождествлялась с гимнастикой. Многие педагоги полагали, что такие занятия они не могут вносить в стеку рабочих часов учебного плана, а потому выказывали полное равнодушие к ним, если не сказать больше.
